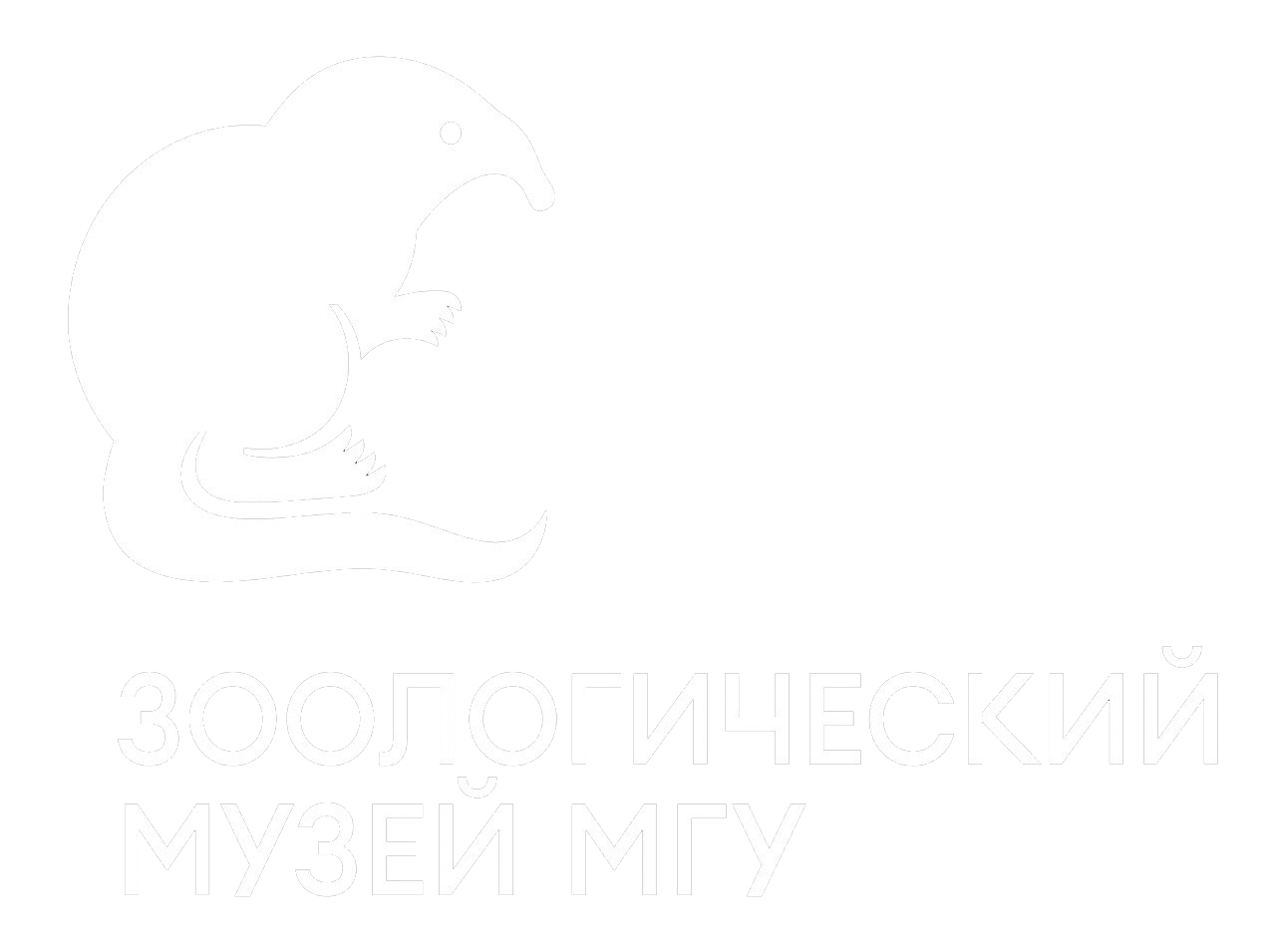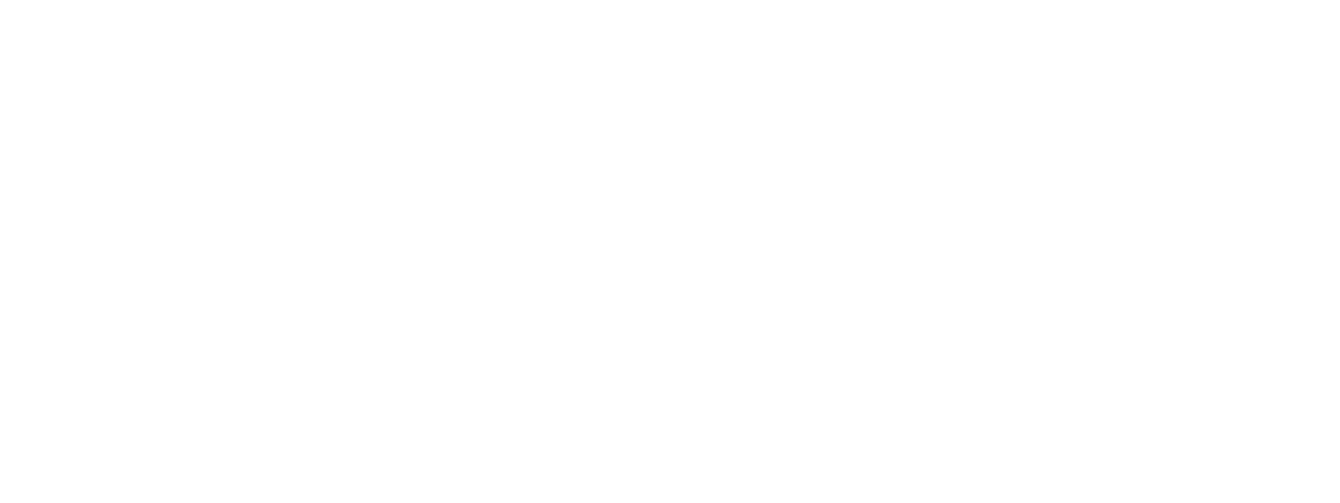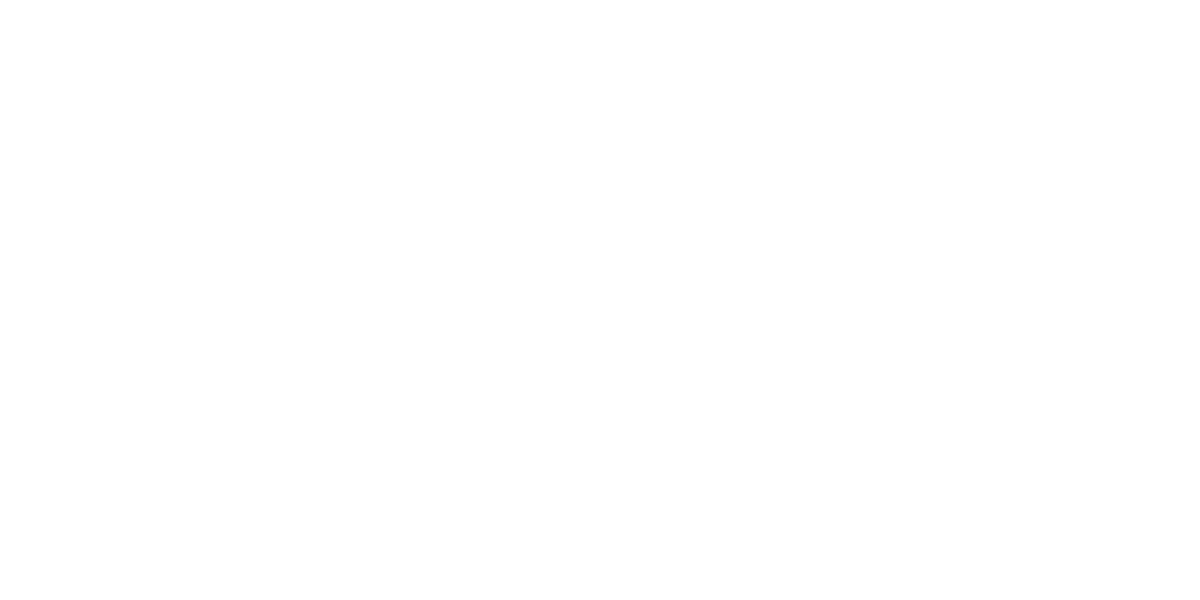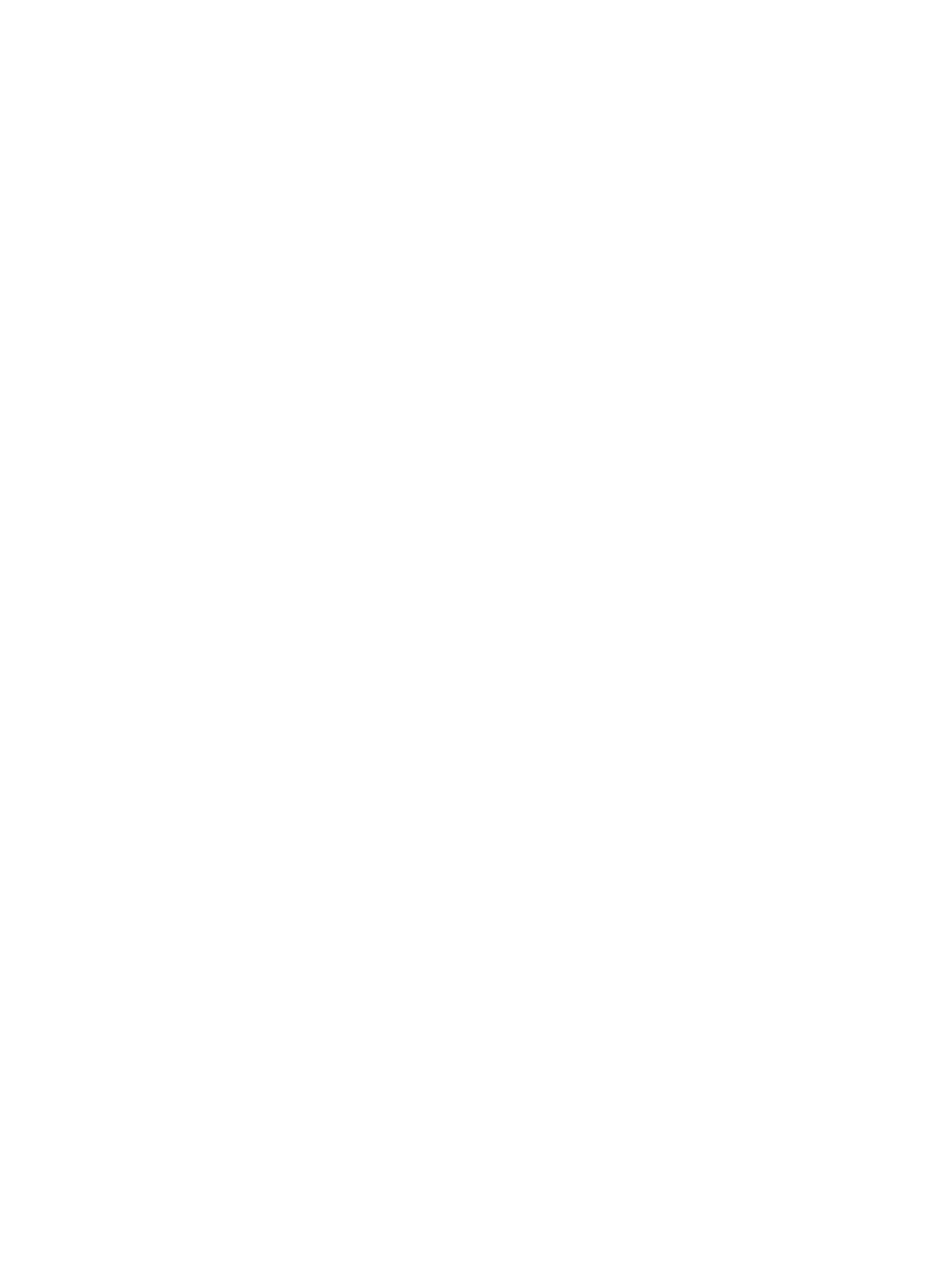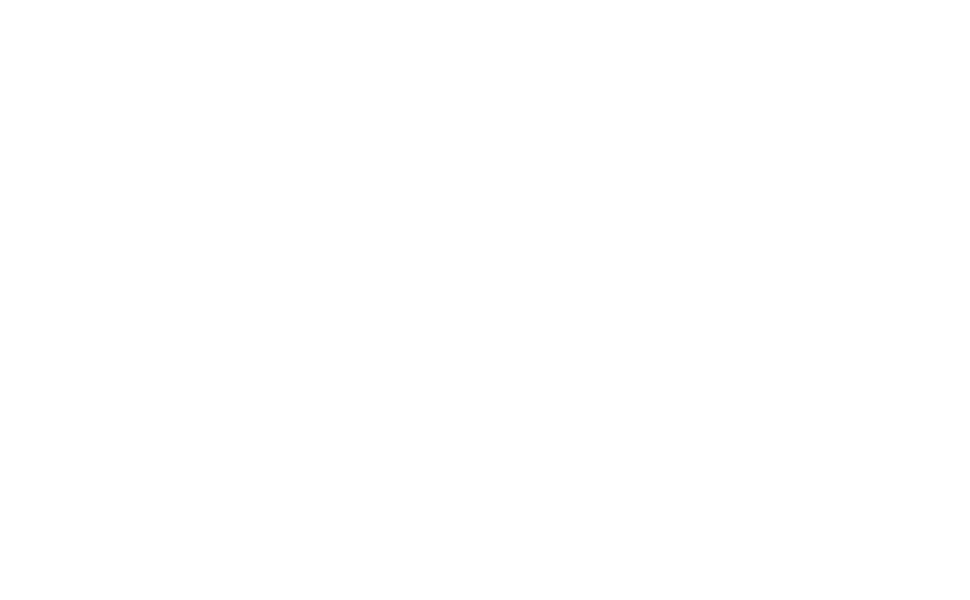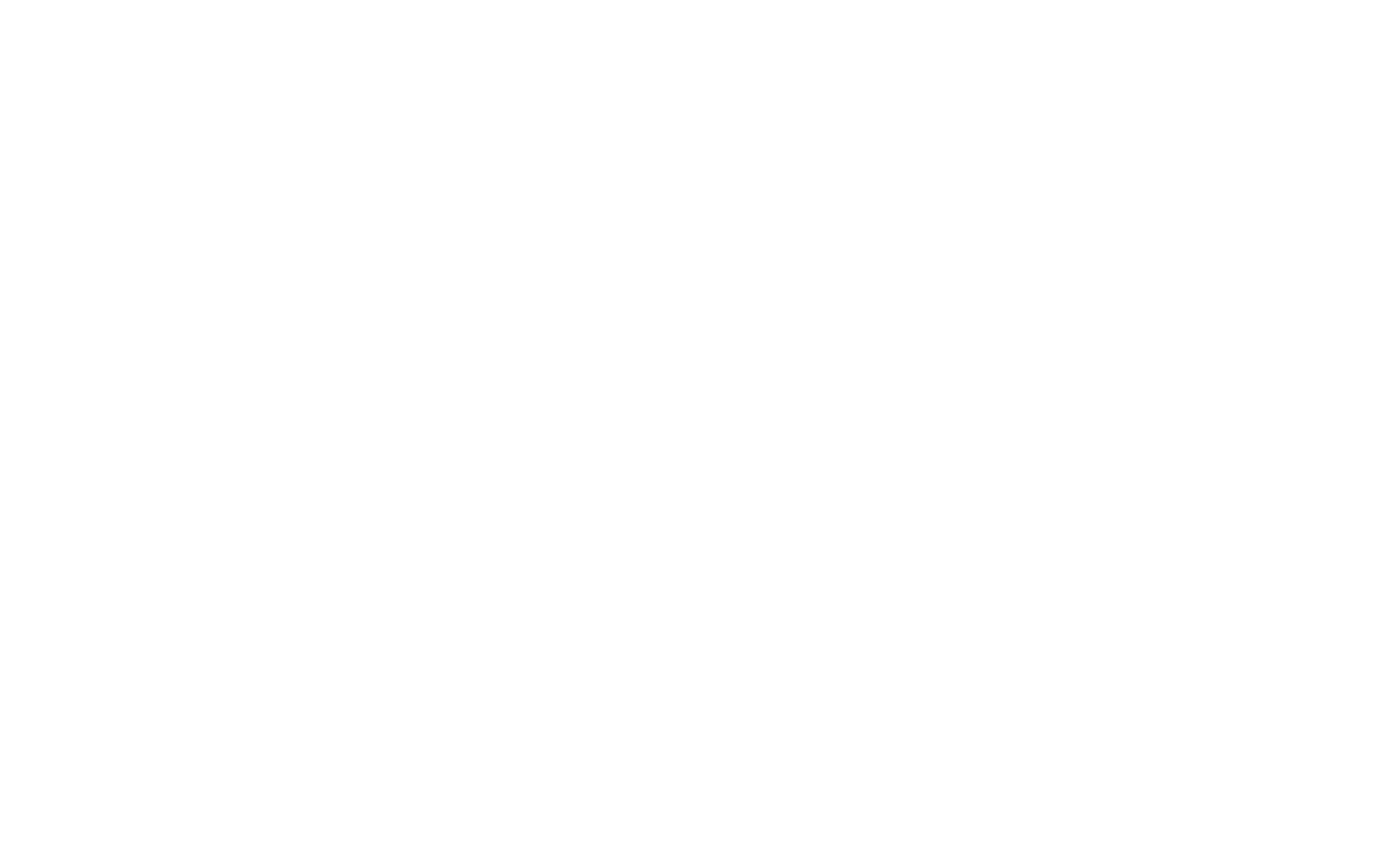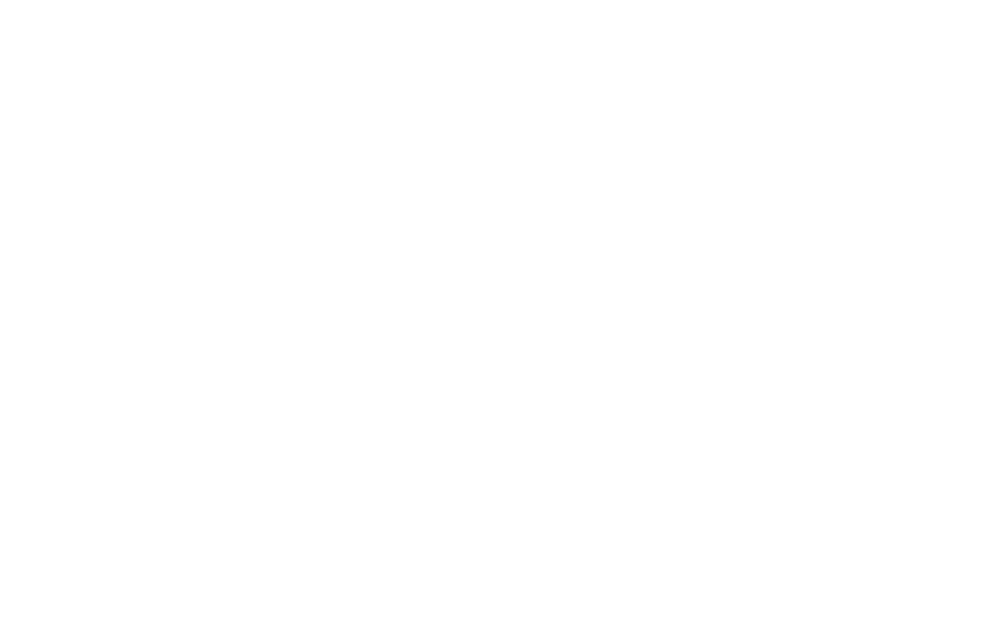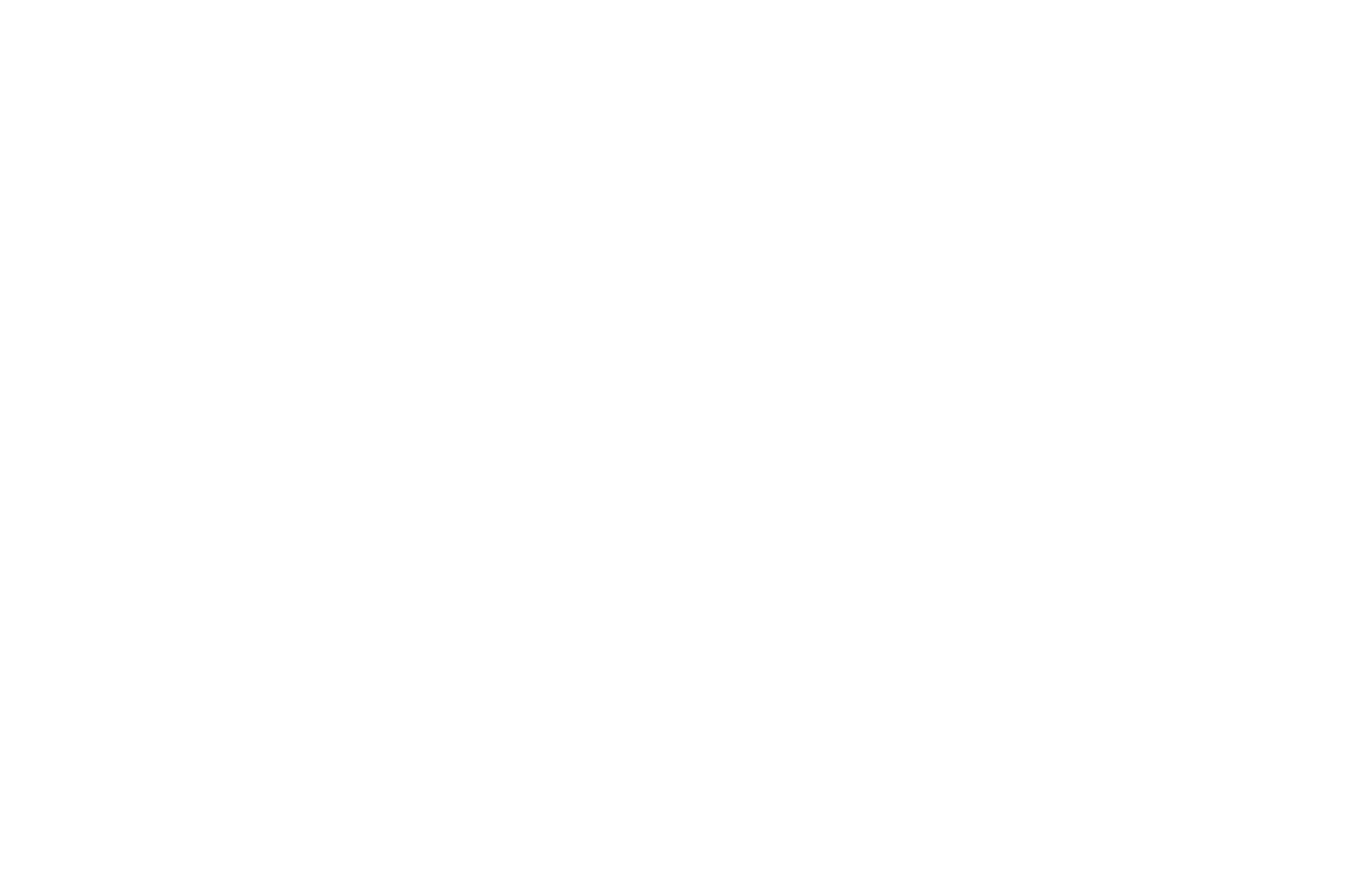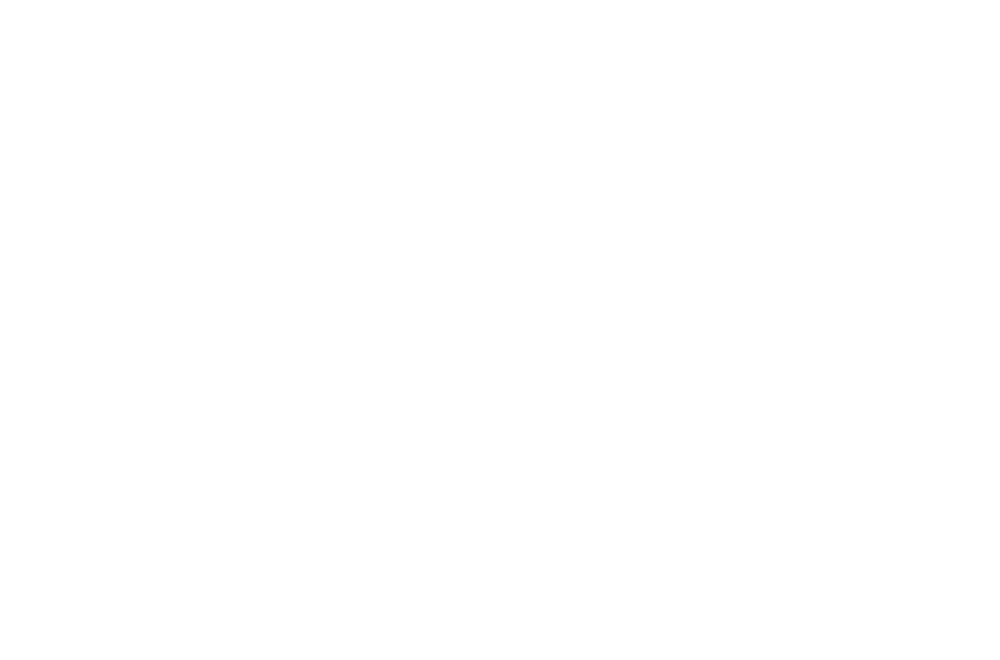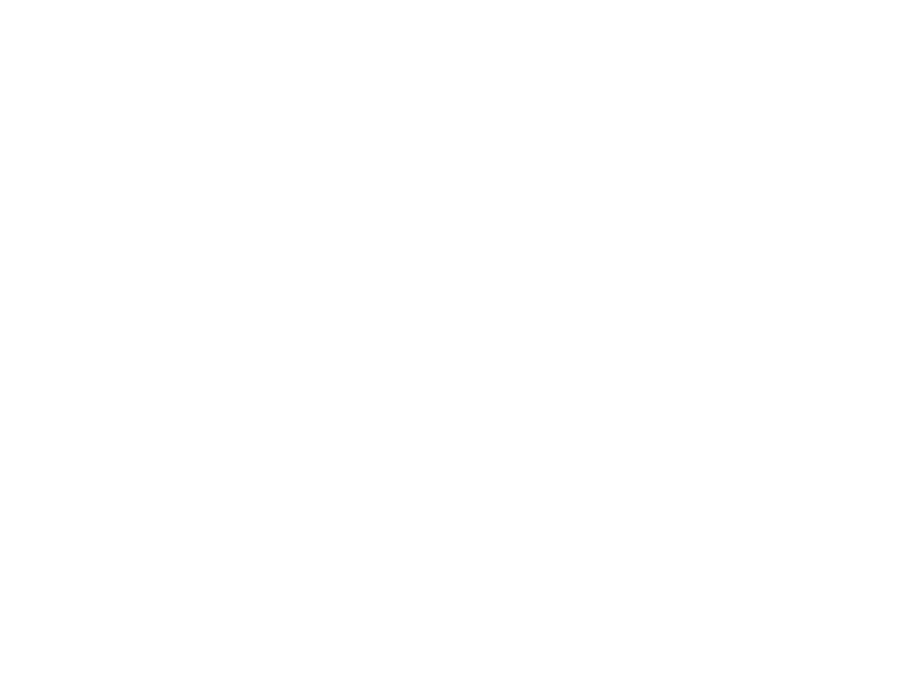Кит умер! Да здравствует кит!
Последнее путешествие кита
«Жаль только: чтобы воспламенить других, спичка и сама сгорает!»
«Бессмертие – это всего лишь вездесущность во времени...»
«Бессмертие – это всего лишь вездесущность во времени...»
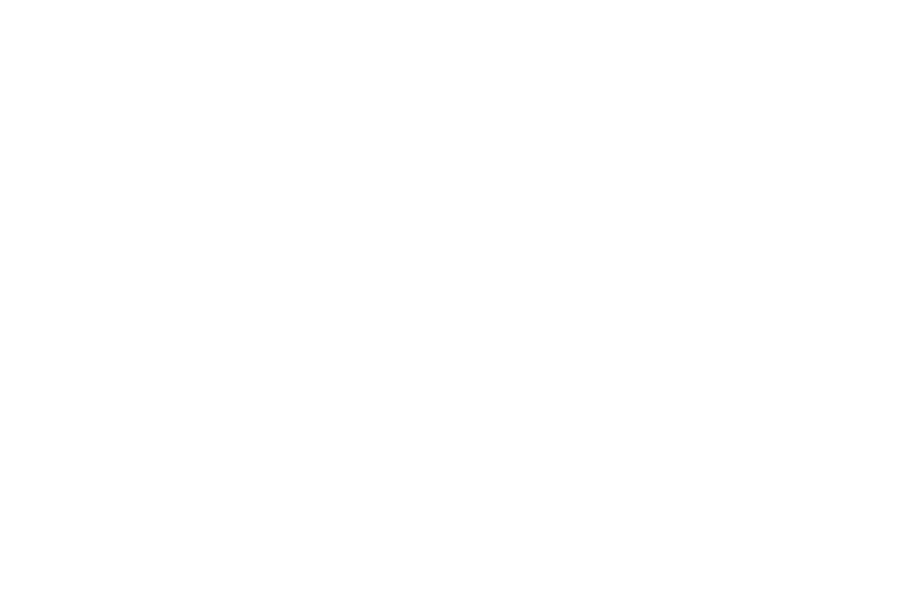
Четвертая водородная бомба упала в Средиземное море.
17 января 1966 года американский стратегический бомбардировщик В52 «Стратофортресс» с четырьмя водородными бомбами на борту выполнял патрульный полет над территорией Средиземного моря в рамках программы НАТО «Хромированный купол». В момент перекачки топлива с самолета-заправщика на высоте 9500 метров штанга топливоприемника пробила фюзеляж бомбардировщика, что привело к возникновению пожара и разрушению левой плоскости самолета. Пятидесятиметровый стотонный бомбардировщик мгновенно потерял тягу, круто завалился на бок и начал стремительно падать. Огонь по заправочной штанге распространился на самолет-танкер, это вызвало взрыв на борту, экипаж погиб.
Командир В52, запасной пилот и штурман успешно катапультировались, второй пилот выпрыгнул через аварийный люк. Бортстрелок и техник-сержант, которые находились в зоне удара, не смогли покинуть самолёт, второй штурман успел катапультироваться, но парашют не раскрылся. Обломки самолёта и четыре термоядерные бомбы рухнули на территорию Испании около рыбацкого поселка Паломарес. Три бомбы, которые упали на материк, спасатели нашли сразу. А последнюю, четвертую, которую ветром снесло на парашюте в Средиземное море, – искали два месяца.
Её обнаружили и с огромным трудом подняли с глубины 800 метров только благодаря новому глубоководному аппарату военного назначения «Алвин». Это было одно из первых его погружений.
Впоследствии «Алвин» прославился тем, что с его помощью обнаружили «черных курильщиков» в рифтовых зонах океана и затонувший «Титаник» – на глубине 4 километра. Но среди зоологов «Алвин» известен еще тем, что во время одного из погружений на нем открыли новый, уникальный тип глубоководных экосистем – туши китов, погрузившихся на дно.
17 января 1966 года американский стратегический бомбардировщик В52 «Стратофортресс» с четырьмя водородными бомбами на борту выполнял патрульный полет над территорией Средиземного моря в рамках программы НАТО «Хромированный купол». В момент перекачки топлива с самолета-заправщика на высоте 9500 метров штанга топливоприемника пробила фюзеляж бомбардировщика, что привело к возникновению пожара и разрушению левой плоскости самолета. Пятидесятиметровый стотонный бомбардировщик мгновенно потерял тягу, круто завалился на бок и начал стремительно падать. Огонь по заправочной штанге распространился на самолет-танкер, это вызвало взрыв на борту, экипаж погиб.
Командир В52, запасной пилот и штурман успешно катапультировались, второй пилот выпрыгнул через аварийный люк. Бортстрелок и техник-сержант, которые находились в зоне удара, не смогли покинуть самолёт, второй штурман успел катапультироваться, но парашют не раскрылся. Обломки самолёта и четыре термоядерные бомбы рухнули на территорию Испании около рыбацкого поселка Паломарес. Три бомбы, которые упали на материк, спасатели нашли сразу. А последнюю, четвертую, которую ветром снесло на парашюте в Средиземное море, – искали два месяца.
Её обнаружили и с огромным трудом подняли с глубины 800 метров только благодаря новому глубоководному аппарату военного назначения «Алвин». Это было одно из первых его погружений.
Впоследствии «Алвин» прославился тем, что с его помощью обнаружили «черных курильщиков» в рифтовых зонах океана и затонувший «Титаник» – на глубине 4 километра. Но среди зоологов «Алвин» известен еще тем, что во время одного из погружений на нем открыли новый, уникальный тип глубоководных экосистем – туши китов, погрузившихся на дно.
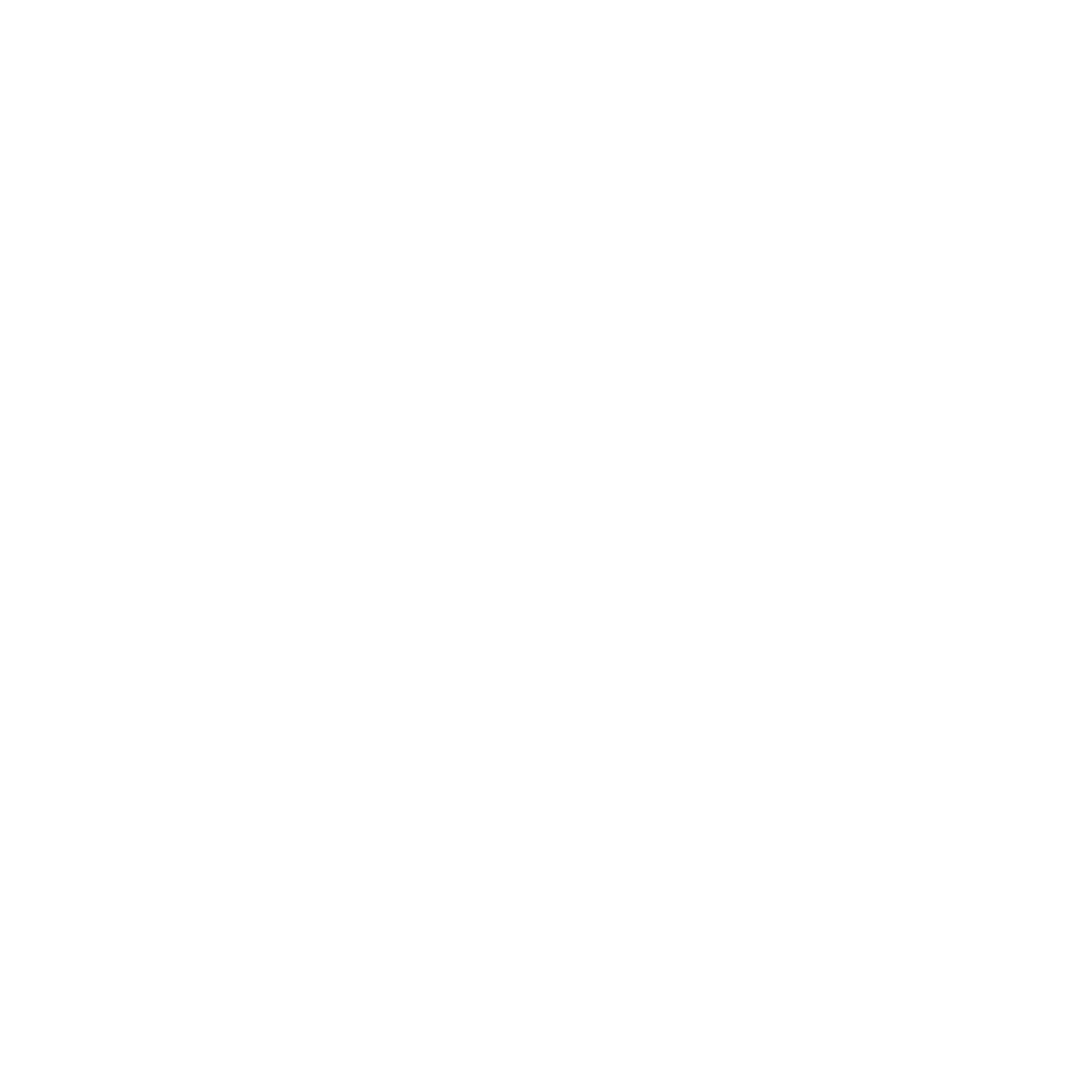
Рокуэлл Кент
Иллюстрации к роману Германа Мелвилла «Моби Дик»
Пустыня – от слова «пусто». Безлюдье, отсутствие жизни, ничто. Необитаемые просторы океана часто сравнивают с пустыней. Барханы как волны, волны – как барханы. Но главное – ощущение безбрежности и опустошенности огромного пространства. Если на поверхности океана встретишь чайку или баклана, альбатроса или резвящегося, выпрыгивающего из воды горбатого кита или стайка летучих рыб внезапно с шелестом выпрыгнет поперек курса судна, то на глубине одного километра человек попадает в настоящую пустыню.
1200 метров под уровнем моря. Абсолютное безмолвие, абсолютная темнота, абсолютное спокойствие, как в сурдокамере. Только тихий и мерный гул электродвигателей батискафа, которое только подчеркивает эту запредельную тишину морского дна. Прожекторы редко-редко выхватывают резким плоским светом одинокого кальмара или вяло плывущую поперек курса бельдюгу. Человеческому глазу не за что зацепиться в глубоководной пустыне во время монотонного многочасового сканирования дна эхолотом. Но в любой, самой пустынной пустыне изможденному жаждой путнику в далеких миражах мерещатся зеленые пальмы оазиса.
1200 метров под уровнем моря. Абсолютное безмолвие, абсолютная темнота, абсолютное спокойствие, как в сурдокамере. Только тихий и мерный гул электродвигателей батискафа, которое только подчеркивает эту запредельную тишину морского дна. Прожекторы редко-редко выхватывают резким плоским светом одинокого кальмара или вяло плывущую поперек курса бельдюгу. Человеческому глазу не за что зацепиться в глубоководной пустыне во время монотонного многочасового сканирования дна эхолотом. Но в любой, самой пустынной пустыне изможденному жаждой путнику в далеких миражах мерещатся зеленые пальмы оазиса.
| Что это? Среди плоской и бесцветной, как старый дубовый стол, однообразной в безликости поверхности дна, сквозь толстое стекло иллюминатора видна огромная, беспрестанно шевелящаяся масса живых существ. Целая живая гора, настоящий оазис среди безжизненной глубоководной пустыни. Здесь и мелкие, не больше метра в длину, донные акулы с плоским, бледным, пятнистым брюхом, и толстые, морщинистые, змееподобные, покрытые густой слизью бурые миксины, и сборища огромных глубоководных изопод – батиномусов, трущихся друг о друга блеклыми панцирями, и, словно, сонные, лениво скручивающие в клубок щупальца небольшие голубоватые осьминоги… Так послужной список «Алвина» пополнился экстравагантным открытием – первой находкой учеными на глубине один километр… туши кита. |
— Вот как об этом рассказывает руководитель той экспедиции профессор Гавайского университета доктор Крейг Смит:
— Мы использовали «Алвин» чтобы сканировать эхолокатором дно. В ноябре 1987 уже завершали работы по поиску и изучению глубоководной фауны шельфа, и ождали подъема последнего рейса «Алвина» со дна. На борту, помимо пилота, сидело двое аспирантов нашего университета. Внезапно мы увидели по приборам, что аппарат отклонился от заданного курса. Ребят долго не было, они не выходили на связь и мы наверху уже беспокоились. Когда лебедки подняли аппарат на палубу экспедиционного судна и открылся люк «Алвина», и мы увидели счастливые и радостные лица, стало понятно, что на глубине у них произошло невероятное открытие: нашли останки огромного, метров 20 длиной, голубого кита, полный скелет. Экипажу «Алвина» удалось поднять одну единственную кость, да сделать пару фотографий в плохом качестве. Такие данные хотя и тянули на сенсацию, но для серьезного научного исследования никуда не годились, надо было возвращаться.
— И вы вернулись?
— Да, но получилось только через год. Тогда собрали несколько центнеров образцов, сфотографировали кита с разных сторон — и опубликовали в 1989 году статью в журнале Nature (https://www.nature.com/articles/34 1027a0). Тогда это была первая находка останков кита, захороненных в океане. До этого никто не знал, что происходит с телами китов на морском дне. А ведь большая часть китов, погибая, тонет, а не выбрасывается волнами на берег. До этого ученым доставались лишь ошметки подводных экосистем на останках кита, куски тела тралами доставали, или отдельные кости. Но чтобы полный скелет — такого еще никто не находил!
1,5 миллиона
китов всех видов живёт в Мировом океане
20 тонн
в среднем весит кит
70 000 особей
составляет ежегодная смертность китов
| Затопить кита К 2022 году ученым было известно уже 45 таких подводных естественных экосистем во всем Мировом океане! И еще 38 китовьих туш ученые сами опустили на дно, чтобы наблюдать за процессом с самого начала – понять, как, когда и какие обитатели появляются на ките. Конечно, это не туши китов, убитых руками ученых. Если где-то на берегу обнаружили выброшенный морем труп кита, или заметили в море еще не погрузившееся на дно тело, то снаряжается экспедиция, во время которой кита тем или иным образом опускают на дно, навешивая на него, например, балласт. Китовые останки, погружаясь на дно, создают особые экосистемы. Не так уж и часто перепадает пища глубоководным обитателям, а целая туша в десятки тонн – для них праздник на долгие годы в условиях жесточайшего дефицита продуктов. Термин «экосистема», применительно к останкам кита, вовсе не преувеличение. Жизнь в океане распределена неравномерно – океаническое ложе, окутанное беспросветной тьмой, напоминает безжизненную пустыню, где ползают редкие иглокожие, крабы и плавают единичные рыбешки. Дело даже не столько в чудовищном давлении на такой глубине. Из-за отсутствия света ни одноклеточных, ни многоклеточных водорослей здесь нет. Первое звено пищевой цепи отсутствует, а значит и последующим кормиться нечем. На такой глубине холодно, темно и поэтому – голодно. А значит – пусто. Главный пищевой ресурс для глубоководных обитателей – опускающиеся из верхних густонаселенных слоев океана останки умерших организмов. Не доели кого-то сверху, значит больше достанется тем, кто снизу. «Дождь из трупов» с увеличением глубины постепенно иссякает благодаря падальщикам толщи океана, и до дна доходят лишь крупицы изобилия. |
| Затопить кита К 2022 году ученым было известно уже 45 таких подводных естественных экосистем во всем Мировом океане! И еще 38 китовьих туш ученые сами опустили на дно, чтобы наблюдать за процессом с самого начала – понять, как, когда и какие обитатели появляются на ките. Конечно, это не туши китов, убитых руками ученых. Если где-то на берегу обнаружили выброшенный морем труп кита, или заметили в море еще не погрузившееся на дно тело, то снаряжается экспедиция, во время которой кита тем или иным образом опускают на дно, навешивая на него, например, балласт. Китовые останки, погружаясь на дно, создают особые экосистемы. Не так уж и часто перепадает пища глубоководным обитателям, а целая туша в десятки тонн – для них праздник на долгие годы в условиях жесточайшего дефицита продуктов. Термин «экосистема», применительно к останкам кита, вовсе не преувеличение. Жизнь в океане распределена неравномерно – океаническое ложе, окутанное беспросветной тьмой, напоминает безжизненную пустыню, где ползают редкие иглокожие, крабы и плавают единичные рыбешки. Дело даже не столько в чудовищном давлении на такой глубине. Из-за отсутствия света ни одноклеточных, ни многоклеточных водорослей здесь нет. Первое звено пищевой цепи отсутствует, а значит и последующим кормиться нечем. На такой глубине холодно, темно и поэтому – голодно. А значит – пусто. Главный пищевой ресурс для глубоководных обитателей – опускающиеся из верхних густонаселенных слоев океана останки умерших организмов. Не доели кого-то сверху, значит больше достанется тем, кто снизу. «Дождь из трупов» с увеличением глубины постепенно иссякает благодаря падальщикам толщи океана, и до дна доходят лишь крупицы изобилия. |
| Мировой океан бороздит полтора миллиона китов. А кит – это в среднем 20 тонн биомассы – жира, мышц, костей… 20 умножить на полтора миллиона… Получается… 30 миллионов тонн еды. Это столько же, сколько Канада производит зерна ежегодно. А если кит умирает, то его биомасса становится достоянием морских обитателей. Умерший кит постепенно уходит на дно морское. И там… Становится оазисом донной жизни: животное размером почти со стратегический бомбардировщик не остаётся незамеченным. В процессе питания усатые киты опускаются на глубину до 100 метров. А чтобы снова вдохнуть атмосферный воздух, нужно всплыть обратно к поверхности. Там киты справляют свою нужду, выделяя с фекалиями соединения азота, так необходимые морскому фитопланктону. Больше элементов минерального питания – больше ресурсов для роста и размножения зоопланктона – основного источника пищи усатых китов. Киты ежегодно мигрируют на тысячи километров между местами кормежки и размножения. Миграция – дело энергетически затратное: вдруг по пути корма не хватит или косатки с акулами досаждать будут, особенно молодым животным. Где кит в преклонном возрасте закончит свой морской путь, на богатых местах кормежки в высоких широтах или во время дальнего пути через воды, в которых пищи толком не сыскать? |
| Когда кит погибает, его многотонные останки опускаются на дно. Двадцатиметровая туша из мышц, костей и китового жира – это богато накрытый стол для глубоководных животных и бактерий. В свежих костях китового трупа содержится 60% жиров, то есть с сорокатонным китом на дно погружается две-три тонны липидов. От целого павшего кита глубоководные обитатели получают около двух тонн чистого органического углерода. Это сравнимо с количеством углерода, который опускается из верхних слоев океана на дно площадью в один гектар за 100-200 лет. А тут – разовая акция! Но вот проблема – как получить приглашение на этот пир, как отыскать к нему путь? Не на каждом же углу дохлые киты лежат, чтобы, доев одного, можно было пересесть за соседний столик. Проблема в том, что ученые пока сами не решили, как это происходит. Самый эффективный способ найти что-то в кромешной темноте глубоководья – по запаху, то есть химическими органами чувств. По подсчетам, для эффективной миграции личинок животных, встречающихся в таких экстравагантных подводных экосистемах, нужно, чтобы китовьи останки лежали чуть ли не каждые пять километров по пути своей миграции. |
| Когда кит погибает, его многотонные останки опускаются на дно. Двадцатиметровая туша из мышц, костей и китового жира – это богато накрытый стол для глубоководных животных и бактерий. В свежих костях китового трупа содержится 60% жиров, то есть с сорокатонным китом на дно погружается две-три тонны липидов. От целого павшего кита глубоководные обитатели получают около двух тонн чистого органического углерода. Это сравнимо с количеством углерода, который опускается из верхних слоев океана на дно площадью в один гектар за 100-200 лет. А тут – разовая акция! Но вот проблема – как получить приглашение на этот пир, как отыскать к нему путь? Не на каждом же углу дохлые киты лежат, чтобы, доев одного, можно было пересесть за соседний столик. Проблема в том, что ученые пока сами не решили, как это происходит. Самый эффективный способ найти что-то в кромешной темноте глубоководья – по запаху, то есть химическими органами чувств. По подсчетам, для эффективной миграции личинок животных, встречающихся в таких экстравагантных подводных экосистемах, нужно, чтобы китовьи останки лежали чуть ли не каждые пять километров по пути своей миграции. |
| Ученые подсчитали, что на конец прошлого века ежегодная смертность девяти самых крупных видов китов составляет 70 000 особей. Если считать темпы смертности стабильными, то во всем океане сейчас покоится с миром больше полутора миллионов (в оригинале 860 000) останков китов на разных стадиях разложения, на расстоянии в среднем 20 километров. Это на порядок больше, чем известно глубоководных гидротермальных источников! Но, скорее всего, китовьи останки лежат гораздо ближе друг к другу, приуроченные к путям миграции этих морских млекопитающих. А ведь раньше, до расцвета китобойного промысла, их популяция была в несколько раз больше и ежегодная смертность могла достигать 400 0000 особей, то есть в шесть раз больше китовых туш по сравнению с современностью! Получается, что не так уж и редки эти оазисы морской пустыни. |
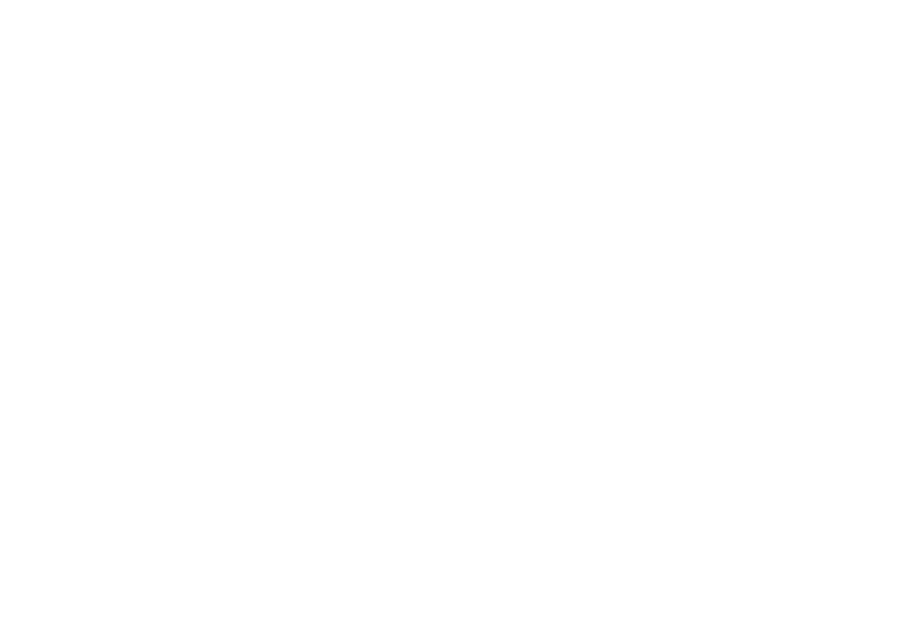
Вернемся к океанографам из подводного аппарата «Алвин». Крэйг Смит с командой в за несколько лет нашли еще два китовых скелета недалеко от Лос-Анджелеса и на Гавайях.
Оказалось, что павшего кита поедают не все, кому попало, а лишь особо приглашенные. Здесь создается особая экосистема, в которой протекает так называемая сукцессия, когда сообщества организмов сменяют друг друга с течением времени.
Оказалось, что павшего кита поедают не все, кому попало, а лишь особо приглашенные. Здесь создается особая экосистема, в которой протекает так называемая сукцессия, когда сообщества организмов сменяют друг друга с течением времени.
| Cтадия подвижного падальщика Все начинается со стадии подвижного падальщика Сначала на свежую плоть набрасываются активные падальщики – в первую очередь миксины, полярные акулы, крупные ракообразные, головоногие моллюски. Несколько месяцев, а то и лет они энергично очищают скелет от мышц, кожи, связок, пока не обглодают все до косточек. Это самая настоящая китовая лихорадка, потому что на глубоководное пиршество собираются сотни животных. |
| Cтадия подвижного падальщика Все начинается со стадии подвижного падальщика Сначала на свежую плоть набрасываются активные падальщики – в первую очередь миксины, полярные акулы, крупные ракообразные, головоногие моллюски. Несколько месяцев, а то и лет они энергично очищают скелет от мышц, кожи, связок, пока не обглодают все до косточек. Это самая настоящая китовая лихорадка, потому что на глубоководное пиршество собираются сотни животных. |
| Стадия потребителя-оппортуниста Затем, когда основная биомасса иссякнет, наступает стадия оппортунистического потребления. На китовую тушу и разбросанные вокруг многочисленные органические остатки сплываются и сползаются разнообразные беспозвоночные животные: многощетинковые черви – полихеты, ракообразные, моллюски. Они питаются богатым органикой субстратом. На этой стадии образуются очень плотные скопления полихет разных видов, похожих на головастиков кумовых раков, сползаются брюхоногие, появляются двустворчатые моллюски. Этот период жизни кита после смерти может длиться до четырех лет. |
| Стадия любителей серы Следующий – третий этап – господство бактерий, которых становится так много, что они образуют особые бактериальные маты – иногда ярких цветов, например, оранжевого и розового. В них происходит анаэробное, то есть бескислородное, разложение жиров, которых в китовьих костях хоть отбавляй. Эту стадию «экосистемы кита» ещё называют стадией любителей серы. Это уже не простое поедание дармовой биомассы падальщиками, тут формируется целое химическое производство, завод по переработке органических останков кита. Некоторые беспозвоночные научились приручать сероокисляющих бактерий, поселили внутри своего тела, чтобы получать за счет них энергию. Получается такой поток серосодержащих соединений: сульфат из морской воды проникает в пористую кость, там за счет него и китового жира живут и питаются сульфат-редуцирующие бактерии. Они выделяют сульфид, а его, в свою очередь, потребляют сероокисляющие бактерии-внутренние симбионты беспозвоночных. К таким хитрым существам относятся, например, большие, 10-15 сантиметров длиной белые моллюски-митилиды Idas washingtonia, родственники мидий, полихеты Osedax с красными венчиками из семейства сибоглиниды (Siboglinidae) и другие. На этой стадии на китовой туше собирается до 200 различных видов животных. Оседаксы появляются тогда, когда от кита остается один обглоданный до чистых белых косточек скелет. Пока не понятно, откуда на глубине в километр появляются эти странные существа – у них нет рта, нет кишечника, нет самцов (самцы потом нашлись: это карликовые червячки-личинки, которые живут «за пазухой» у самок, внутри трубок — по полсотни у каждой самки). Оседаксы питаются костной тканью, о чем и свидетельствует их название. Эти черви образуют колонии в несколько миллионов особей (ведь такой шанс выпадает им редко, и надо им пользоваться). Они делают в толще костей длинные разветвленные трубки, растворяя минеральную основу кости кислотой и формируют корневидную структуру, которая прорастает в костную ткань. Наружная часть червя выглядит как маленькая красная пальма, которая торчит из кости. В их тканях живут бактерии, которые умеют расщеплять материал костей и переваривать его. Получается, они выращивают на скелете кита такой огород из бактерий — и живут за счет его продукции. За них все «разжевывают» бактерии. Может пройти полвека, пока не закончится жир в костях и вместе с ним – третья стадия китовой лихорадки. |
| Стадия любителей серы Следующий – третий этап – господство бактерий, которых становится так много, что они образуют особые бактериальные маты – иногда ярких цветов, например, оранжевого и розового. В них происходит анаэробное, то есть бескислородное, разложение жиров, которых в китовьих костях хоть отбавляй. Эту стадию «экосистемы кита» ещё называют стадией любителей серы. Это уже не простое поедание дармовой биомассы падальщиками, тут формируется целое химическое производство, завод по переработке органических останков кита. Некоторые беспозвоночные научились приручать сероокисляющих бактерий, поселили внутри своего тела, чтобы получать за счет них энергию. Получается такой поток серосодержащих соединений: сульфат из морской воды проникает в пористую кость, там за счет него и китового жира живут и питаются сульфат-редуцирующие бактерии. Они выделяют сульфид, а его, в свою очередь, потребляют сероокисляющие бактерии-внутренние симбионты беспозвоночных. К таким хитрым существам относятся, например, большие, 10-15 сантиметров длиной белые моллюски-митилиды Idas washingtonia, родственники мидий, полихеты Osedax с красными венчиками из семейства сибоглиниды (Siboglinidae) и другие. На этой стадии на китовой туше собирается до 200 различных видов животных. Оседаксы появляются тогда, когда от кита остается один обглоданный до чистых белых косточек скелет. Пока не понятно, откуда на глубине в километр появляются эти странные существа – у них нет рта, нет кишечника, нет самцов (самцы потом нашлись: это карликовые червячки-личинки, которые живут «за пазухой» у самок, внутри трубок — по полсотни у каждой самки). Оседаксы питаются костной тканью, о чем и свидетельствует их название. Эти черви образуют колонии в несколько миллионов особей (ведь такой шанс выпадает им редко, и надо им пользоваться). Они делают в толще костей длинные разветвленные трубки, растворяя минеральную основу кости кислотой и формируют корневидную структуру, которая прорастает в костную ткань. Наружная часть червя выглядит как маленькая красная пальма, которая торчит из кости. В их тканях живут бактерии, которые умеют расщеплять материал костей и переваривать его. Получается, они выращивают на скелете кита такой огород из бактерий — и живут за счет его продукции. За них все «разжевывают» бактерии. Может пройти полвека, пока не закончится жир в костях и вместе с ним – третья стадия китовой лихорадки. |
| Стадия рифа Последняя стадия сукцессии останков кита – рифовая. И она затягивается уже надолго. Например, на пару тысяч лет... Тут кит уже перестает играть роль источника пищи даже для бактерий, теперь он – твердая опора для животных-фильтраторов. Сидят себе на китовых скелетах разнообразные глубоководные актинии, полупрозрачные щупальца расправили, ловят мелочь всякую из потока воды. Красиво… Ученые считают, что в океане есть китовые скелеты возрастом до двух тысяч лет, превратившиеся в рифы – оазисы на пустынном дне океана. |
Этапы постмортального пути
-
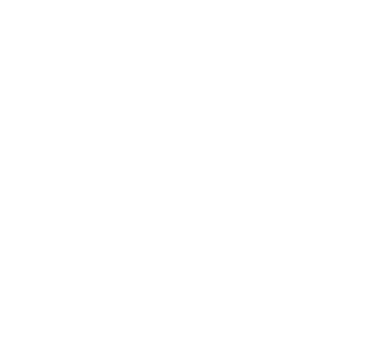 Активные падальщикимиксины, глубоководные акулы, ракообразные
Активные падальщикимиксины, глубоководные акулы, ракообразные -
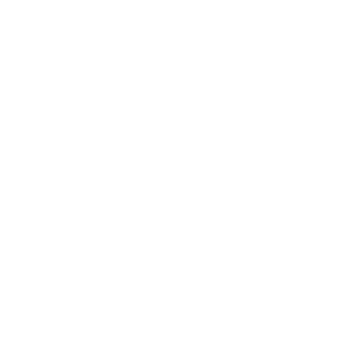 Потребители-оппортунистыкрабы, осьминоги, моллюски, креветки, полихеты
Потребители-оппортунистыкрабы, осьминоги, моллюски, креветки, полихеты -
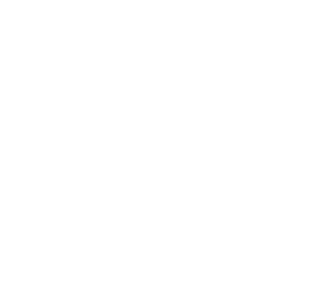 Любители серыбактерии, моллюски, полихеты
Любители серыбактерии, моллюски, полихеты -
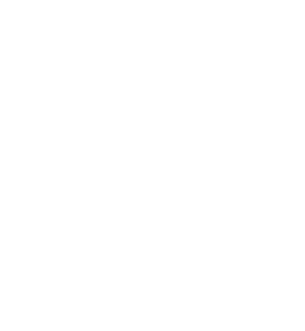 Рифбеспозвоночные - фильтраторы: анемоны, кораллы
Рифбеспозвоночные - фильтраторы: анемоны, кораллы
Глубоководное падение кита – не катастрофа, а подарок судьбы для редких и странных обитателей тёмных миров
Миграция усатых китов обеспечивает потоки питательных веществ в океане. Плавая сверху вниз, кит переносит микроэлементы в приповерхностные слои воды, а, погибая и опускаясь на дно, доставляет несколько десятков тонн органики на глубину, создавая «горячую точку» биоразнообразия. Но в отличие от падения бомбардировщика, сваливающегося в последний смертельный штопор, падение кита – не катастрофа, а подарок судьбы для редких и странных обитателей тёмных миров, несущих вечный ночной дозор на морском дне. Кит – это важный участник пищевой сети океана.
Из-за деятельности человека численность китов сильно сократилась в XX столетии. Если китовьих останков на дне станет слишком мало, то и причудливым обитателям этих экосистем станет сложнее жить, миграции их личинок станут невозможны, и мы потеряем уникальные глубоководные экосистемы.
Из-за деятельности человека численность китов сильно сократилась в XX столетии. Если китовьих останков на дне станет слишком мало, то и причудливым обитателям этих экосистем станет сложнее жить, миграции их личинок станут невозможны, и мы потеряем уникальные глубоководные экосистемы.
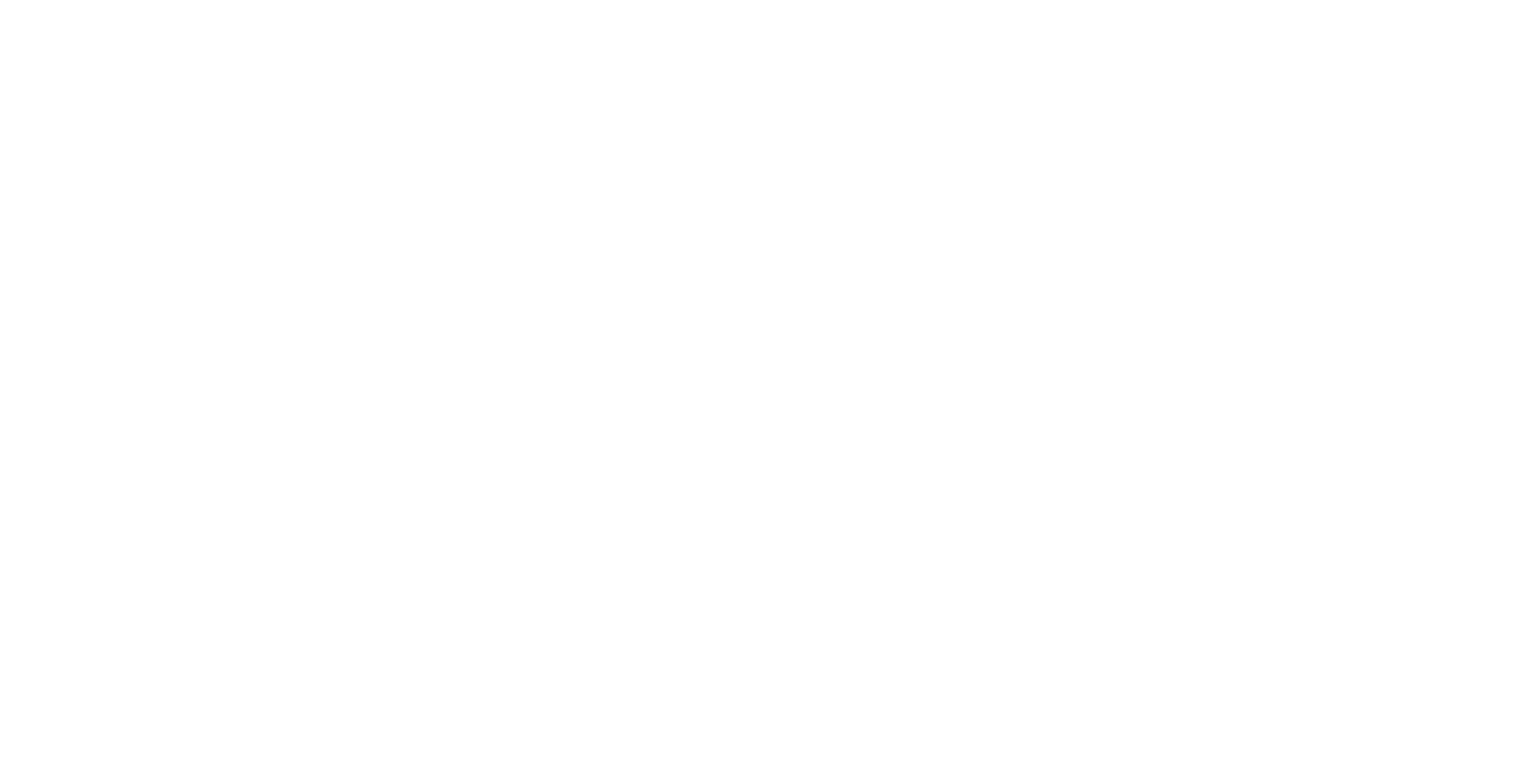
У входа в Научную библиотеку МГУ под большим прозрачным шатром лежит странный объект. Это пятиметровый череп кашалота, который Русское географическое общество не без приключений – вертолетом, пароходом, самолетом, автомобилем – привезло с Курильских островов и подарило Зоологическому музею. Череп прекрасно сохранился, его приятная на ощупь восковая поверхность выбелена суровыми тихоокеанскими штормами. На ежегодном Фестивале науки этот внешний экспонат музея, вынесенный за стены экспозиционных залов, неизменно собирает аншлаг. Но такая почетная посмертная судьба случается не с каждым китом. Хотя, дело, конечно, не в почете или значении для науки. Даже умирая, каждый кит продолжает играть огромную роль в экосистемах, поддерживая жизнь уникального сообщества других живых существ. Медленно погружается на дно океана туша кита, совершает последнее путешествие, последний затяжной нырок в темные, мрачные, холодные глубины. Существование кита после смерти продлится гораздо дольше его жизни – несколько сотен лет.
Киты завещают свои тела Мировому океану и Московскому университету
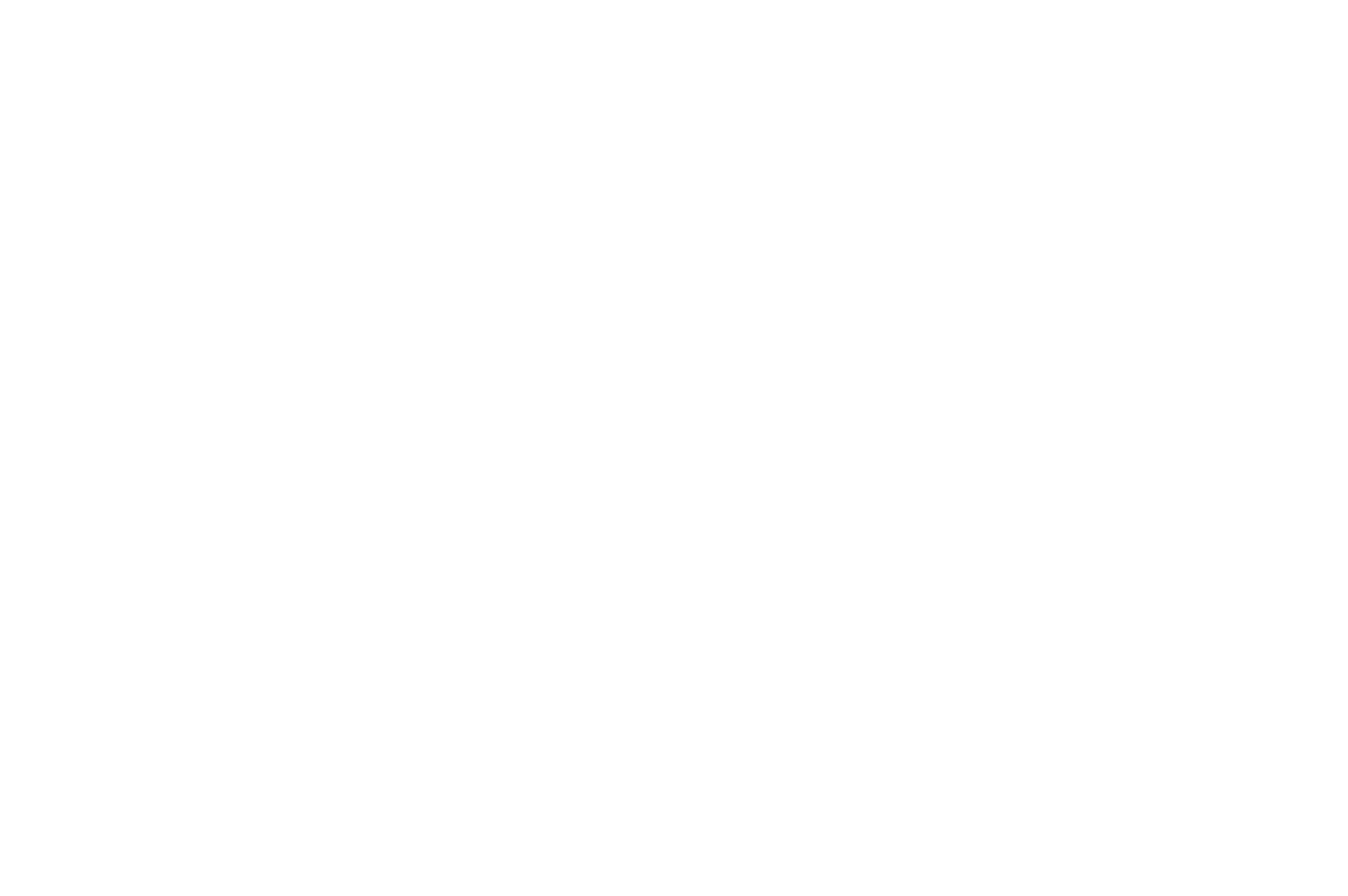
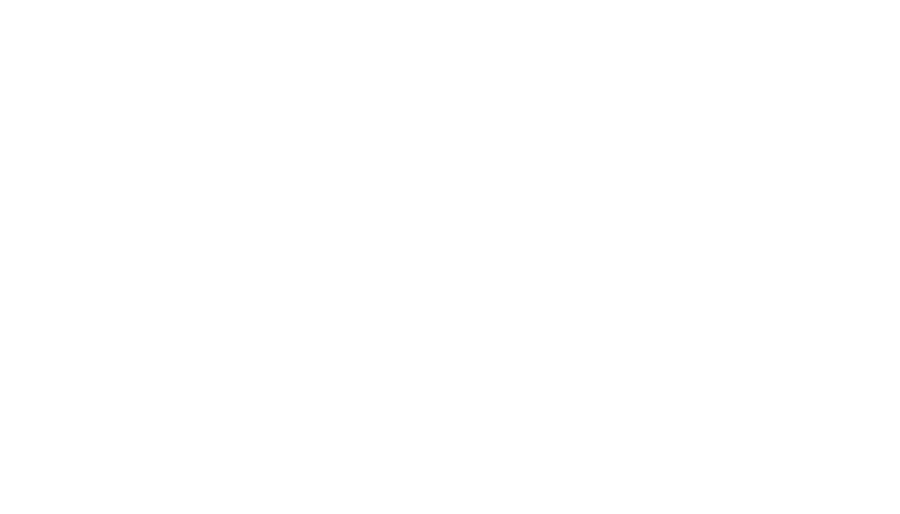
Карта распространения известных захоронений китов на дне