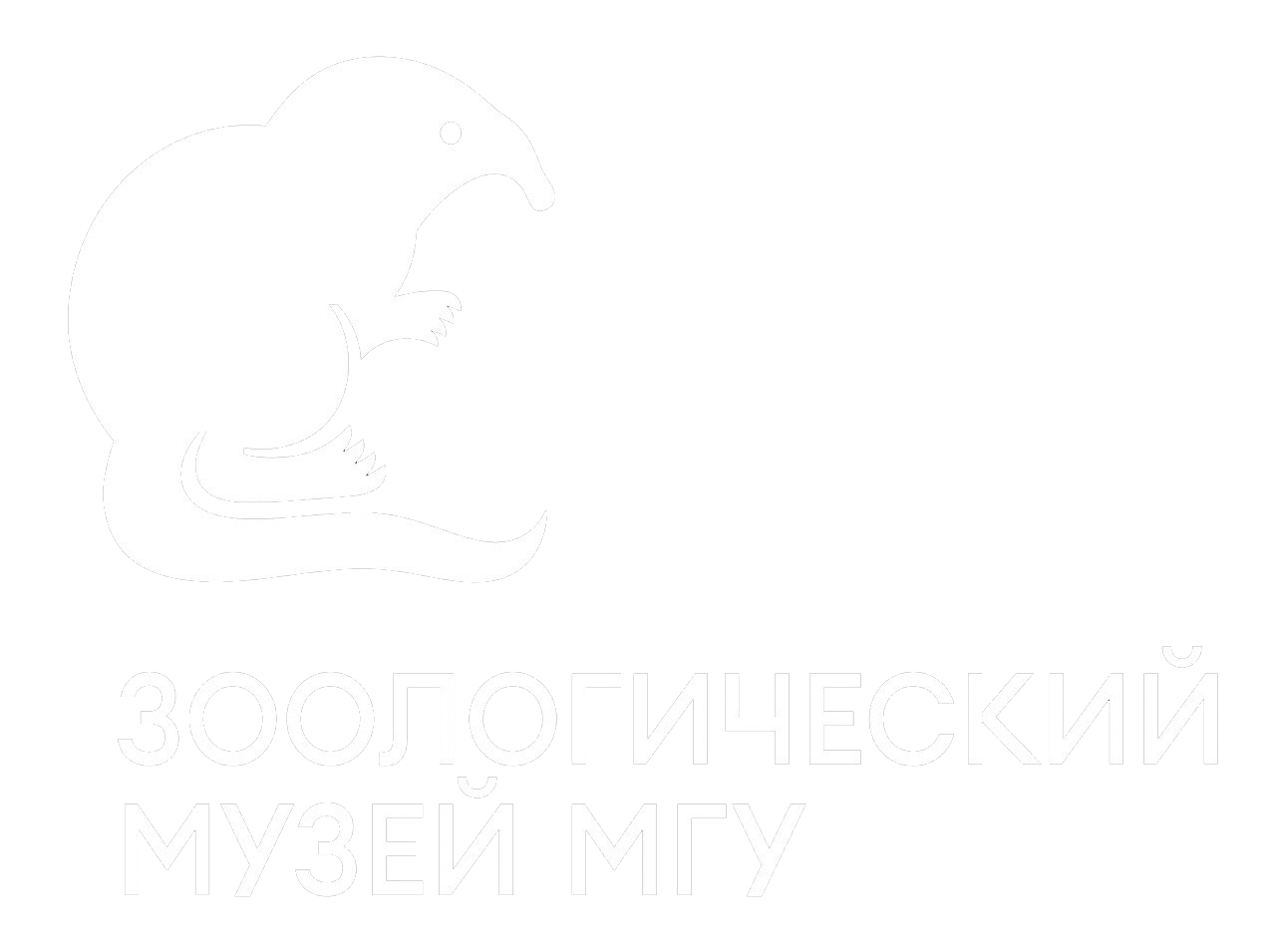Тварь страдающая:
думать картины Василия Ватагина
Тварь страдающая:
думать картины Василия Ватагина
Колыхается во сне…
<…>
Тайны созданных созданий
С лаской ластятся ко мне…
Картина, изображение – статичны. Как мгновенная фотография, она запечатлевает уникальный момент. Что было до, что будет после – можем только догадываться, фантазировать, интерпретировать. Но именно для этого картина и написана – чтобы пробудить нашу мысль к действию, к работе после того, как зритель выйдет из музея. В том числе и работе над собой.
Сам Ватагин, характеризуя творчество художника, использовал слово «выявление». Вместе с вами мы попытаемся выявить скрытый смысл посланий художника так, как он открывается нам в пространстве музея.
Художник-анималист Василий Алексеевич Ватагин работал в непростое время
В Зоологическом музее Московского университета Ватагин начал работать уже после не вполне успешного проекта создания «идеологического музея». Тогда вместе с будущим директором Дарвиновского музея Александром Федоровичем Котсом они были вынуждены даже уничтожать некоторые скульптурные работы, которые могли бы вызвать неудовольствие большевистских властей. И видимо вызвали. Иначе как понять сохранившуюся в архивах фотографию Котса с остатками бюста Рудольфа Штайнера во дворе музея? А такие концептуальные вещи Ватагина, как, «Антропософский триптих», «Эволюция мировоззрений» на десятилетия пришлось спрятать в запасниках. С Александром Котсом, его женой и соратницей Надеждой Ладыгиной-Котс Василий Ватагин задумывал эпический музей-храм, посвященный синтезу науки, искусства и религии. Искали пути непротиворечивого единения этих трех так трудно сочетаемых ингредиентов человеческого разума.
Ватагин с Котсом не считали музей простым собранием редкостей или нужностей для науки. Для них музей имел сакральное значение, как алтарь человеческого знания. Причем это не только место, куда приходят для освящения и посвящения. Он и сам по себе является источником священного света просвещения для всего окружающего мира. А святилище требовало соответствующего художественного антуража. Об этом Ватагин высказывался в письмах Котсу, в которых соратники обсуждали внутреннее устройство и оформление нового музея. Но… не вышло.
Не получилось. И не потому, что смесь науки и религии – давно известно – взрывоопасная, а исключительно по внешним причинам: советской власти такая сомнительная эклектика, да еще воплощенная в фундаментальных художественных образах, уже никак не пришлась ко двору. Советская власть к тому времени окончательно определилась с собственными поисками – творчество должно отражать и восхвалять победы нового строя и ничего более. Даже если побед нет, их нужно красиво, желательно реалистично выдумать. На то вы и художники. Такое у вас госзадание.
Поэтому можем предположить, что те 40 лет, которые Василий Алексеевич после неудачи в Дарвиновском, проработал в Зоологическом музее МГУ, не прошли ремесленной барщиной, не оказались исполнением заказа зарисовать стены картинками на естественнонаучные темы. Хотя именно так считает большинство художественных критиков. Они относят анималистику к маргинальной сфере живописи, отказывают этому жанру в способности ставить, а тем более решать духовно-нравственные задачи, к чему призвано искусство. Но нет! Внутренний, ищущий, религиозно-нравственный человек Ватагина выплескивался в творчестве, но выплескивался прикровенно, не явно, прятался под веригами канонов соцреализма.
Работ Ватагина на не анималистические сюжеты не так уж много, и все эти композиции полны символизма.Так, в 1920-е годы, Ватагин по заказу Котса помимо «Антропософского триптиха» создал трехчастное панно «Эволюция мировоззрений»: «Античные мифы», «Догматическое богословие» и «Наука». К теме символической интерпретации мироздания он возвращался неоднократно. А что, если взглянуть под таким углом зрения и на росписи Зоологического музея?
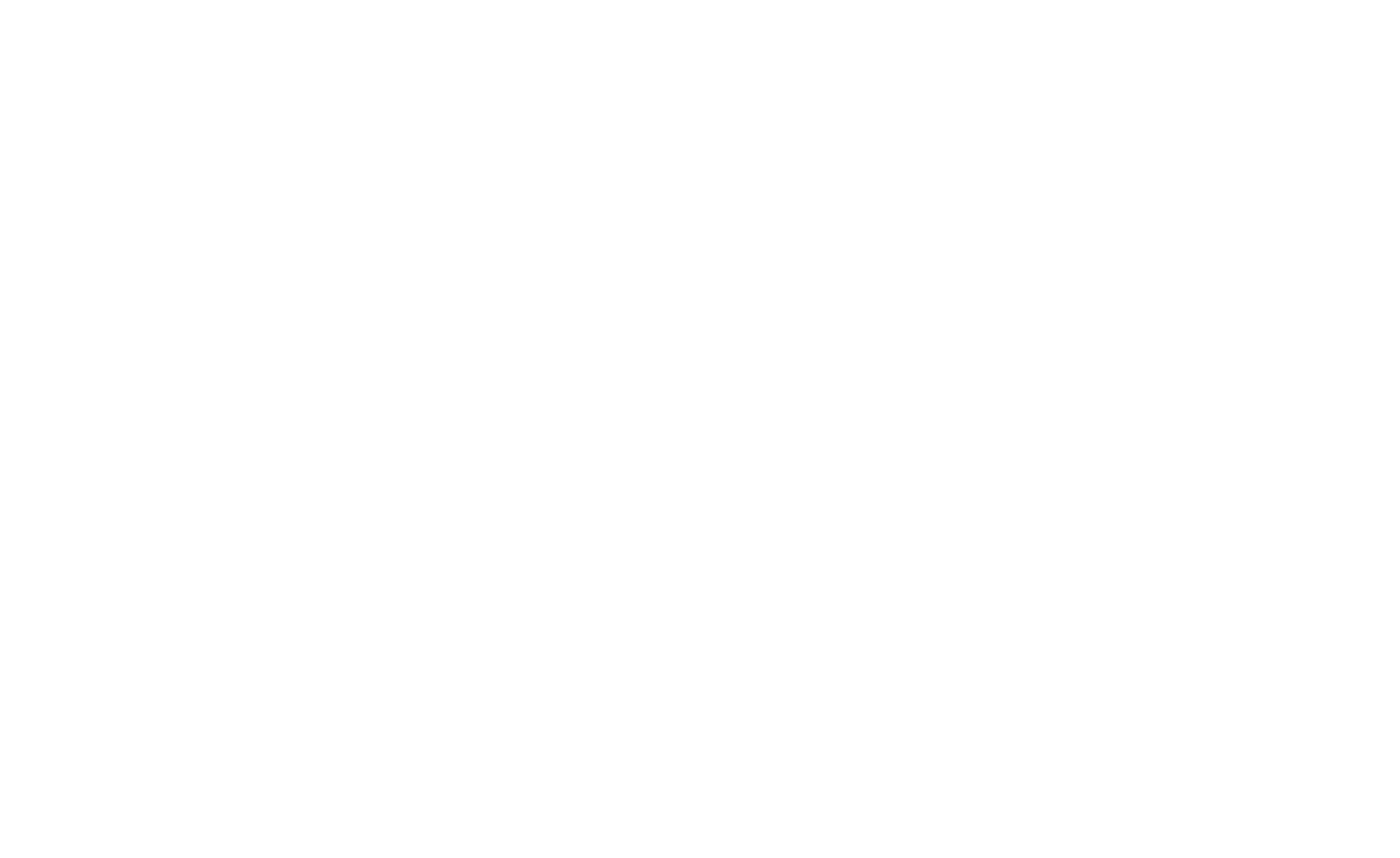
Так уже было в истории живописи при оценке художественного значения иконы. Да, можно рассматривать икону, как отдельный предмет, как произведение искусства, как музейный артефакт. Но «звучит» она только на своем месте – в едином измерении-ансамбле христианского храма, где соединяется со звуками, красками, запахами, священнодействиями и смыслами сакрального пространства.
Возможно, работа с Александром Котсом над идеей музея-храма являлась попыткой реализовать в жизни то далекое впечатление, ту концепцию мироздания, которую он прочувствовал в Индии. Именно это проглядели критики, называвшие его скучным художником естественнонаучных музеев.

В символическом отношении храмовый неф (от латинского слова nAvis – корабль) с алтарной апсидой изображал Ноев ковчег, в котором, как мы помним, спасались все живые твари, каждая по паре, вместе с семьей праведного Ноя. Фрески наполняют сакральное место смысловым содержанием. Традиционно на восточной стене храма звучит тема Воскресения, на западной – тема Страшного Суда. Сюжеты боковых стен не столь каноничны и зависят, скорее, от фантазии живописца.
Какую же сюжетную интригу предлагает нам художник?
Поднимите голову и взгляните на двенадцатиметровые потолки и протяженность внутреннего пространства «входной группы» музея – тот самый неф древней базилики. На старых дореволюционных планах видно, что пространство это изначально было трехчастным – центральный неф отделен рядами колонн с пролетами от двух боковых. Промежутки между колоннами главного нефа не были заполнены, как сейчас, отчего создавался огромный парящий объём сводчатых потолков. Ныне это уже не видно, такого первого сильного впечатления нет, арочные пространства закрыты художественными панно Василия Ватагина, словно это большие проёмы – окна в иной мир, мир дикой природы, удивительному разнообразию которого и посвящен музей.
Восемь больших «фресок» окружают нас. Не будем торопиться, остановимся, и начнем их разглядывать пристальнее. Каждая фреска имеет несколько планов, с далекой перспективой – где горы, где холмы, где осенняя тайга, где далекий вулкан или ледник.
Сначала выскажем предположение. Сюжеты фресок центрального нефа музея можно выразить известной библейской цитатой из послания к Римлянам, 8:22, вынесенной в эпиграф нашего выпуска: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне, ожидая откровения сынов Божиих». Пять сюжетов фресок из шести – страдание в чистом виде: нападения хищников, охота, хищник над мертвой жертвой, турнирный бой двух разгоряченных страстью самцов. Шестая картина – со стадом зубров на водопое, казалось бы мирная и даже элегическая, совсем о другом. Но об этом отдельно. Переживание страданий живой плоти и сострадание ей со стороны человека – вот, на наш взгляд, центральная тема, которую предлагает Ватагин входящим под своды музея, и которая явственно звучит здесь с первых же шагов.
И для начала подойдем поближе к мамонтам, не бойтесь, ведь это всего лишь картина…
или тварь страдающая
Лапландия
И это правильно. А это вы его убили, вот он и смотрит. Не вы лично, конечно, но ваши предки – первобытные охотники. Взор мамонта с порога обличает того, кто его истребил. По крайней мере, предательски воткнул копьё в мохнатую спину, добил в трудную эпоху потепления климата и катастрофических изменений привычного ландшафта мамонтовой фауны – тундростепи. Мамонты проявили упорство и боролись до последнего. Мы чуть-чуть не успели – последние останки датируются временем всего 5000 лет назад. А могли бы использовать при постройке БАМа или там прокладке труб «Силы Сибири» бесплатную рабочую силу мохнатых древних гигантов.
Мамонты вымерли, но...
Мамонты вымерли, ушли в небытие, наполнили своим шумным лохматым присутствием мир мёртвых. Но здесь, на восточной стене музея, они живые – идут себе, пыхтя, по тундре. Живые, теплые, свободные. Чем не картина на традиционный сюжет Воскресения всей твари, освобожденной наконец, от мучения?
Скажем больше: тема воскрешения мамонтов вообще время от времени возникает в связи с очередными успехами генной инженерии. Почему-то именно про мамонтов чаще всего спрашивают журналисты сотрудников нашей лаборатории древней ДНК в этой связи. Но… нет, пока нет. ДНК – штука хрупкая, даже в вечной мерзлоте не выдерживает и распадается на фрагменты, так что говорить о клонировании мамонтов из древней «молекулы наследственности» пока ещё рано, технологии не позволяют.
Есть свидетельство ученика Василия Ватагина о том, где художник делал первые наброски ландшафта для панно с мамонтами. Но здесь уже начинается личная, авторская история.
Вот сейчас я стою у микрофона в студии звукозаписи факультета журналистики Московского университета на рубеже шестидесятилетия. И как многих в этом переходном возрасте, меня терзают мысли о творчестве, о жизни, о старости и последнем переходе. И тут воспоминания Василия Алексеевича очень помогли мне, потому что он прошел через эти же муки рефлексии человека о смысле бытия и своем предназначении.
Василий Ватагин встречал этот возрастной рубеж на Севере, в Лапландском заповеднике, на этюдах с учеником Вадимом Трофимовым. И тоже казался задумчивым и даже расстроенным, пребывающим в сомнениях. Показывая последние наброски, сказал: «Знаете, Вадим, все-таки годы берут своё, заставляют подумать о старости. Мне кажется, я что-то потерял, перестал видеть, и рисунки кажутся хуже, чем раньше». И показал два этюда с гранитными «лбами», словно идущими прямо на зрителя. Позднее эти рисунки превратились в композицию с группой мамонтов, уходящих от надвигающихся ледников. Так написано в воспоминаниях самого Трофимова. Из этих слов становится понятно, что сначала на рисунках Ватагина присутствовали только причудливые гранитные скалы, покрытые мохнатыми северными лишайниками, и только потом они трансформировались в сложную многофигурную композицию с животными.
Сейчас, когда смотрю на этих мамонтов в фойе музея, сюжет картины кажется очень символичным. Старость – это ледники, это бесплодная замшелая каменистая земля, с которой фигуры древних животных словно сливаются и фактурой, и цветом. Косная мертвая материя настигает живую плоть, растворяет в себе, поглощает, умерщвляет. Но душа живая все-таки сопротивляется, рвется к жизни и творчеству и через творчество – воскресает.
Кажется, что именно такую мысль через далекую историю из Лапландии художник хотел донести до зрителей этим сюжетом. По крайней мере так она помогла преодолеть мою собственную рефлексию – так мудрость жизни побеждает сомнения. А мамонт, кажется мне, теперь не смотрит так уж сурово, а скорее лукаво подмигивает с пятиметровой высоты из под старинных сводов музея.
Степь
При чем же тут сайгаки и степь? Мы же хотим выявить метафизический смысл этой фрески! Попробуем…
Кажется, что чувствуешь привкус пыли на губах, песок скрипит на зубах, ступнями ощущаешь, как вибрирует пол фойе, словно вдалеке по мосту идёт груженый товарняк и колёсные пары стучат на стыках рельсов. Куда несетесь? Везде беда… Ведь на дворе эпоха освоения целинных земель, и по призыву партии комсомольская молодёжь Советской страны тысячами валит в североказахстанские степи, чтобы распахать их для нужд социалистической родины.
Вот и несется на картине Василия Алексеевича испуганное стадо неизвестно куда, словно русская тройка – только «видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух». Да орёл-могильник спустился и сузил круги над мертвечиной.
Предположительно впечатления для сюжета этого панно Ватагин получил в заповеднике Аскания-Нова в 1927 году.
Вот как сам он об этом пишет: «Впечатления от Аскании были новы, сильны и поразительны! Впервые я увидел стада антилоп, бизонов, зебр и страусов, свободно пасущихся в степи. Тогда еще Аскания сохраняла традиции ее основателя Фальцфейна – богатого любителя животных и природы. Он приобрел многие сотни десятин целинной причерноморской земли и организовал уголок Африки на юге России. И никаких практических целей. Все строительство на основе любви к природе».
Никаких практических целей… Каким контрастом звучат эти слова в нашем теперешнем времени, когда даже заповедники нещадно эксплуатируются так называемым экологическим туризмом, вместо эталонных резерватов нетронутой дикой природы становясь кормовой поляной для инвесторов.
Уссурийская тайга
Ватагин считал, что в тигре есть «суровость». Природная независимость проявляется в каждом движении этого грациозного зверя. Несмотря на внешнюю, знакомую по кинематографу, мультяшность фигуры тигра, походка животного заключает в себе элемент внутреннего скрытого напряжения и потенциальной готовности к действию. Именно это панно несёт максимальную колористическую насыщенность и живописное разнообразие, соединяя манеру корпусного письма с тонкой лессировкой фигур животных.
Именно это панно несёт максимальную колористическую насыщенность и живописное разнообразие, соединяя манеру корпусного письма с тонкой лессировкой фигур животных.Дальний Восток, дикой природе которого посвящены три из восьми панно, произвел огромное впечатление на Ватагина. Здесь художник побывал в 1928 году во время экспедиции по заданию Музея народоведения, то есть спустя пять лет после издания знаменитой книги Владимира Клавдиевича Арсеньева о путешествии по тем же местам – Амуру и дебрям Уссурийского края, среди гиляков, гольдов и удэгейцев. Нет никаких свидетельств того, что Ватагин был знаком с известным произведением «Дерсу Узала», однако вряд ли такое издание прошло бы мимо него. В повести много места уделено и амбе – тигру – хозяину Уссурийской тайги.
«Кто не бывал в тайге Уссурийского края, тот не может себе представить, какая это чаща, какие это заросли. Буквально в нескольких шагах ничего нельзя увидеть. В четырех или шести метрах не раз случалось подымать с лежки зверя, и только шум и треск сучьев указывали направление, в котором уходило животное. Погода не благоприятствовала. Все время моросило, на дорожке стояли лужи, трава была мокрая, с деревьев падали редкие крупные капли. В лесу стояла удивительная тишина. Точно все вымерло. Даже дятлы и те куда-то исчезли.
— Черт знает что за погода, — говорил я своему спутнику. — Не то туман, не то дождь, не разберешь, право. Ты как думаешь, Дерсу, разгуляется погода или станет еще хуже?
Гольд посмотрел на небо, оглянулся кругом и молча пошел дальше. Через минуту он остановился и сказал:
— Наша так думай: это земля, сопка, лес — все равно люди. Его теперь потеет. Слушай! — Он насторожился. — Его дышит, все равно люди…
Он пошел снова вперед и долго еще говорил мне о своих воззрениях на природу, где все было живым, как люди.
Не успели мы сделать и 200 шагов, как снова наткнулись на следы тигра. Страшный зверь опять шел за нами и опять, как и в первый раз, почуяв наше приближение, уклонился от встречи. Дерсу остановился и, оборотившись лицом в ту сторону, куда скрылся тигр, закричал громким голосом, в котором я заметил нотки негодования:
— Что ходишь сзади?.. Что нужно тебе, амба? Что ты хочешь? Наша дорога ходи, тебе мешай нету. Как твоя сзади ходи? Неужели в тайге места мало?
Он потрясал в воздухе своей винтовкой. В таком возбужденном состоянии я никогда его не видывал. В глазах Дерсу была видна глубокая вера в то, что тигр, амба, слышит и понимает его слова. Он был уверен, что тигр или примет вызов, или оставит нас в покое и уйдет в другое место. Прождав 5 минут, старик облегченно вздохнул, затем закурил свою трубку и, взбросив винтовку на плечо, уверенно пошел дальше по тропинке. Лицо его снова стало равнодушно-сосредоточенным. Он «устыдил» тигра и заставил его удалиться».
В ответ на предложение подстеречь и застрелить тигра, Дерсу решительно отвечает:
«— Нет, моя не могу. Моя тебе вперед говори, стрелять амба никогда не буду! Твоя хорошо это слушай. Амба стреляй — моя товарищ нету…»
Тянь-Шань
Псалом 71:3
Он красив и строен, несмотря на возраст. Он всегда впереди. Он лидер. Он опытен. На голове огромные закрученные шершавые рога весом под тридцать килограммов. Горы – его дом. Так его и зовут – горный баран или архар. Но на всякого архара найдётся свой снежный барс. Ловкий, незаметный, терпеливый, невидимый ниндзя гор. Невидимый, потому что пепельно-серая окраска растворяется в рисунке сухих камней азиатских горных кряжей. Остался последний прыжок. Архар ничего не подозревает, не видит, не чует барса. Ветер дует в другую сторону и относит запах хищника. Всё предрешено. Завтра восход солнца в этих хребтах встретит новый вожак гарема из 10 самок. Может быть именно из-за них-то и потерял осторожность старый самец, слишком погрузился в раздумья о продолжении рода.
Передний план картины темный, солнце уже давно покинуло этот глубокий распадок жестоких страстей, в котором происходит извечная борьба жизни и смерти – жертв и хищников, победителей и побежденных, хитрости и коварства, боли и страдания.
Ярко освещенные вершины царят над мелкой суетой примитивной формы жизни на своих бесконечных склонах. Горы – высшая форма существования материи.
Новая Земля
Становилось холоднее. Пароход «Малыгин» шел во все более тесном окружении льдин уже местного происхождения, тюлени «вставали» между ними, следы белых медведей встречались на льдинах».
В.А. Ватагин. «Воспоминания»
Невесёлая картина вечной круговерти судьбы – хищник нападает, жертва убегает – изображена и на этой фреске. На этот раз жертве не повезло. То ли сытный жирный рыбный обед, то ли еще едва-едва пригревающее северное апрельское солнце сморило в сладкой тёплой дрёме тюленя, но что-то отвлекло его внимание. А медведь воспользовался слабостью и схватил добычу, прежде чем та соскользнула в гладкий темно-зеленый зев проруби.
Но и для успешного хищника охота еще не закончилась. Тюленей не просто мало, а от года к году меньше и меньше, голодных же медведей много тут бродит – надо выиграть конкуренцию с желающими подкрепиться на дармовщинку близкими родственниками. На незваный обед голодных ртов готово заявиться много, но пока появился только один.
Мизансцена проста, сурова и величественна, как всякая картина Севера. И снова горы наблюдают за тщетной суетой у своих подножий. Среди нагромождения высоких обледенелых пиков, покрытых клоками то ли низких облаков, то ли остатками тумана, широким голубым языком, словно дорогое колье из карбункула, спускается в глубокий вырез бухты ледник. Белое безмолвие, так это называется у классиков северного эпоса. В этой тишине тем большим диссонансом звучит глухое и хриплое рычание двух огромных зверей, делящих добычу. Нет, не делящих, а стремящихся отобрать друг у друга.
Паразитировать друг на друге легче и выгоднее, чем добывать пищу в Арктике самому. Как это похоже на нас. Отжать, урвать, схватить, цап-царапнуть, присвоить чужое, отобрать у другого то, что не принадлежит тебе. Хотя и своё-то едва переварить способен. А можно ведь и поделиться, а можно потом вместе заохотить новую добычу. Вместе проще, быстрее, эффективнее, добрее. Но не слышат медведи. Моё! В гневе защищает хозяин своё от чужака, рёв ярости стоит над Белым безмолвием.
Картина Ватагина написана за 100 лет до фильма, за век до нашего времени. Но её сакральный смысл — «Не убий!» — не перестал быть актуальным для каждого, здесь и сейчас.
Уссурийская тайга
В прозрачных осенних широколиственных лесах Приморья только стук падающего на землю маньчжурского ореха нарушает тишину замершей в ожидании первого снега тайги. В этом таёжном угомоне далеко разносится странный гортанный рев. Самцы марала призывают самок и приглашают соперников померяться силами ради возможности внести вклад в генофонд популяции. Тестостерон зашкаливает, глухие удары далеко-далеко разносятся по бесконечным затихшим хмурым падям. Обитатели уремы прислушиваются, всем интересно, чем закончится схватка. Особенно самкам. В конце концов, им в первую очередь важно, чтобы производитель был в силе, а не молодняк какой-нибудь необученный вышел победителем – ни от тигра не защитить, ни тропу к солонцам в глубоком снегу проложить.
Бьются самцы маралов за право первой ночи, аж треск стоит по дальневосточной тайге.
Камчатка
Массивная, неуклюжая, гротескная, кургузая фигура медведя повторяет силуэт сопок заднего плана и даже форму сглаженного конуса извергающегося вулкана. Медведь, как тотем, как дух этого края, неуживчивый, непредсказуемый, неуправляемый, неукротимый. Постоянно голодный. Это какой-то еще не до конца законченный, первобытный дикий мир в процессе если не творения, но становления. Слабым тут не место. Человека тут еще нет. Да он тут и неуместен. Дикий первобытный мир: вулкан, медведь, река, лосось. Камчадальский бог-Творец мира – ворон Кутх – пока еще больше ничего не успел создать.
Неудивительно, что именно таким мог запечатлеться у Ватагина образ медведя под впечатлением от жестокого праздника у гиляков: «Зверя-бога привязывают ремнями под мышками к перекладине между двух столбов и ритуально убивают будто бы стрелами и после торжествен вкушают мяса и крови своего божества».
С другой стороны, что-то человеческое, неуклюжее и милое есть в этой фигуре медведя, разухабисто размахивающего лапой в попытке поймать лосося. И тогда начинаешь его любить благодаря Ватагину, одним из первых позволившему себе поэзию в анималистической живописи, попробовавшему доказать, что животное может быть красиво и значительно само по себе.
С другой стороны, что-то человеческое, неуклюжее и милое есть в этой фигуре медведя, разухабисто размахивающего лапой в попытке поймать лосося. И тогда начинаешь его любить благодаря Ватагину, одним из первых позволившему себе поэзию в анималистической живописи, попробовавшему доказать, что животное может быть красиво и значительно само по себе.
Кавказ
В.А. Ватагин. «Воспоминания».
Зубр сыт и спокоен. В его брюхе, раздутом от съеденной за день травы, идет сложный пищеварительный процесс. Эта мощная скульптурная фигура смотрит только вниз, на землю, озабочена только собственной сытостью, довольством собой, покоем. Что еще нужно, чтобы встретить старость в прохладной долине Кавказских гор? Не манят быков и диких свинок сияющие высоты, как и на соседней фреске – настойчиво, но безмолвно зовущие оторваться от сочных пастбищ, поднять взор горе’.
По Библии, свиньи – животные нечистые, оскверняющие Обетованную землю. Река на фреске выглядит мифологическим потоком Стикс, разделяющим царство живых и мертвых, царство вещности и вечности. Вечность! Каким же контрастом угрюмым сытым животным звучит на этой фреске тема сверкающих вечных горных вершин! Прямо таки Рериховских вершин. Зубры, несмотря на видимое величие, никогда не смогут достичь этих высот, даже мысль такая не закрадется в невеликий по объёму мозг травоядного существа, с трудом решающего проблему поиска примитивного корма. Вечно призваны бродить по темным долинам вещности, бессмысленно пережевывая бесконечную жвачку идеального потребителя. Горы? А что это? А зачем они? Нет, не слышали…
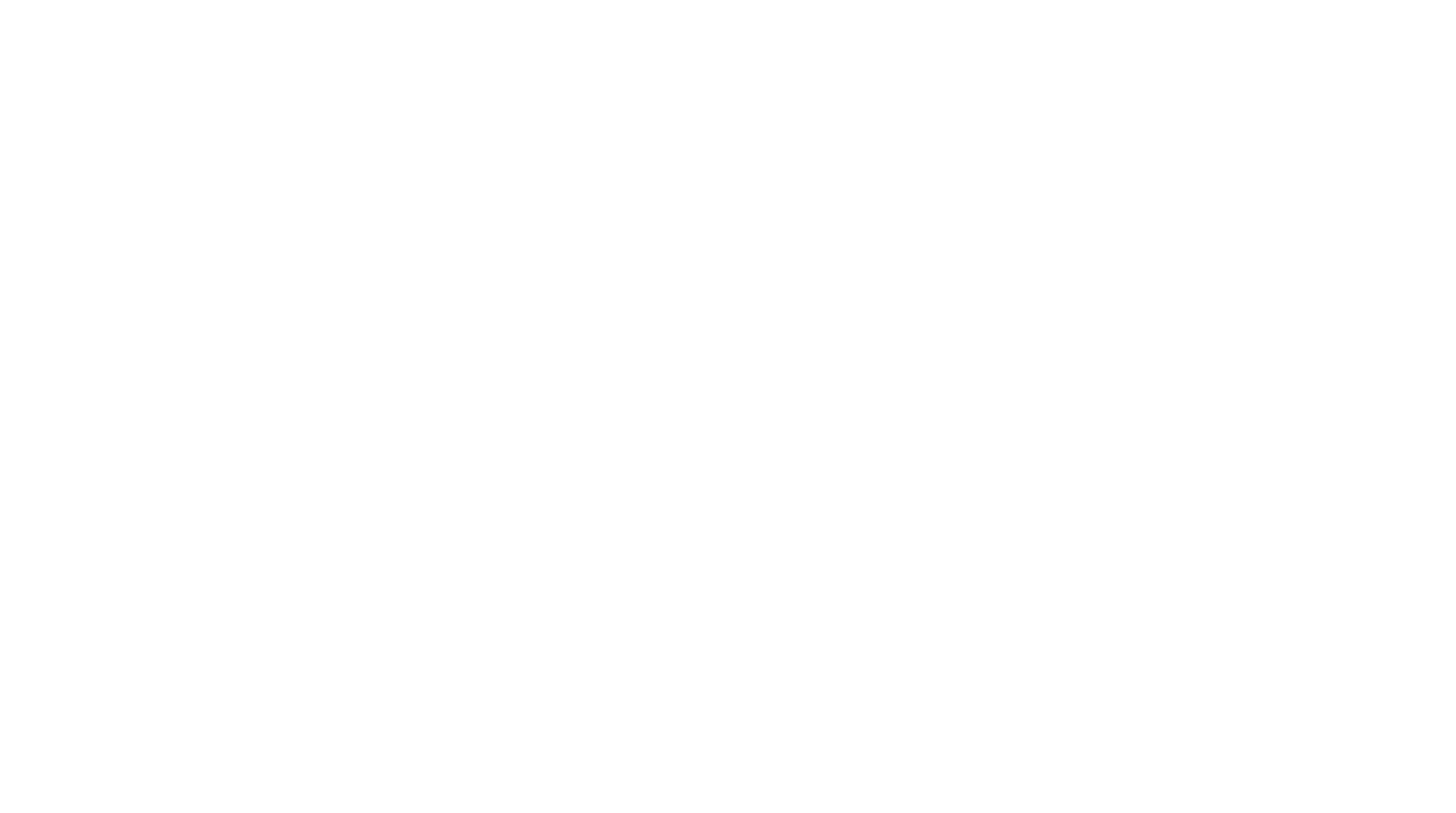
Но в отличие от картин Рериха, у Ватагина ни в одном сюжете нет персонажа, обращённого к горным вершинам — человека. Где же его искать? Для этого у нас в фойе есть огромное зеркало. Подойдите к нему. Персонаж, который должен быть устремлен к высотам созерцательного и познавательного духа — это… мы. Мы с вами.
Для чего нужны музеи? Хранить то, что рано или поздно все равно будет разрушено? Ведь в нашем мире это неизбежно. Все истлеет рано или поздно. Все будет изъедено, источено насквозь невидимым, неумолимым, неутомимым, прожорливым жучком времени. Мы пытаемся сохранить, но знаем о своём поражении в битве со Хроносом.
Помимо материальных предметов, музей хранит нетленные экспонаты – смыслы и ценности. Но музей не должен их консервировать и прятать в недоступные никому хранилища и подвалы. Цель музея – транслировать эти смыслы миру и человеку. В этом его миссия. Хранить и показывать, рассказывать и учить.
Но музейные предметы молчат. Сами по себе они не могут вступать в общение с посетителем. Ещё на заре становления Зоологического музея его директор Анатолий Петрович Богданов писал о необходимости «объяснения» коллекций для публики.
Какую же миссию выполняют картины В.А. Ватагина в музее? Они помогают мертвой и безгласной естественно-научной коллекции начать диалог с посетителем через эмоции. Предметы молчат; картины – рассказывают. Картина – это текст, который посетитель начинает читать уже с первых шагов во входном нефе музея. Картина – это рассказ. Грустный, как осеннее Белое море с криками чаек, нестерпимо зовущих куда-то вдаль; или бодрый и весёлый, как утренние амазонские джунгли с резкими, но такими домашними криками попугаев и туканов; задумчивый, как голый и пустынный, скрытый в пелене туманов, силуэт еще не названного первооткрывателями арктического острова со следами белых медведей на запорошенном свежим снегом ледяном припае; или пронзительный и яркий, как живопись Гогена, опрокинутый на землю небесный простор весенней цветущей степи.
Картины оживают и оживляют...
Фрески Ватагина – не просто «животный мир степей, тайги и гор», плюс мамонты. Тогда можно было бы изобразить животных так, как он их написал для Зоогеографического атласа профессора Мензбира на заре карьеры художника-анималиста – просто группы животных в определенном ландшафте. Нет. Здесь, в фойе Зоологического музея картины Ватагина оживают и продолжают жить. Жить уже в нашем сознании, памяти, рефлексии о себе и об этом мире. Мире страдающем. Мире несовершенном. Ждущем откровения. От нас и о нас.
Люди мыслящие и наблюдательные должны понимать, что природа находится в ненормальном состоянии. Слышать её вздохи: — Стенает и мучится… В том и другом выражении содержится намек на то, что природа испытывает такие же тяжкие страдания, какие испытывает рождающая женщина – в греческом оригинале текста стоит слово, которое означает «муки роженицы». Этим автор цитаты подчеркивает, что мучения природы не бесцельны: она тщится породить новую жизнь, но не может этого достигнуть. Не может достигнуть без нас. Взаимосвязь и взаимозависимость страданий человека и физического творения, частью которого он является, и в среде которого существует, глубоко чувствовал и глубоко переживал Василий Алексеевич Ватагин. Но он также понимал, что и преодоление этого состояния зависит от нас – для этого нужно наблюдать, мыслить, сопереживать, сострадать, действовать…
Сто отражений.
Каждое из них
Не есть печаль, лишь сходно с ней по виду.»
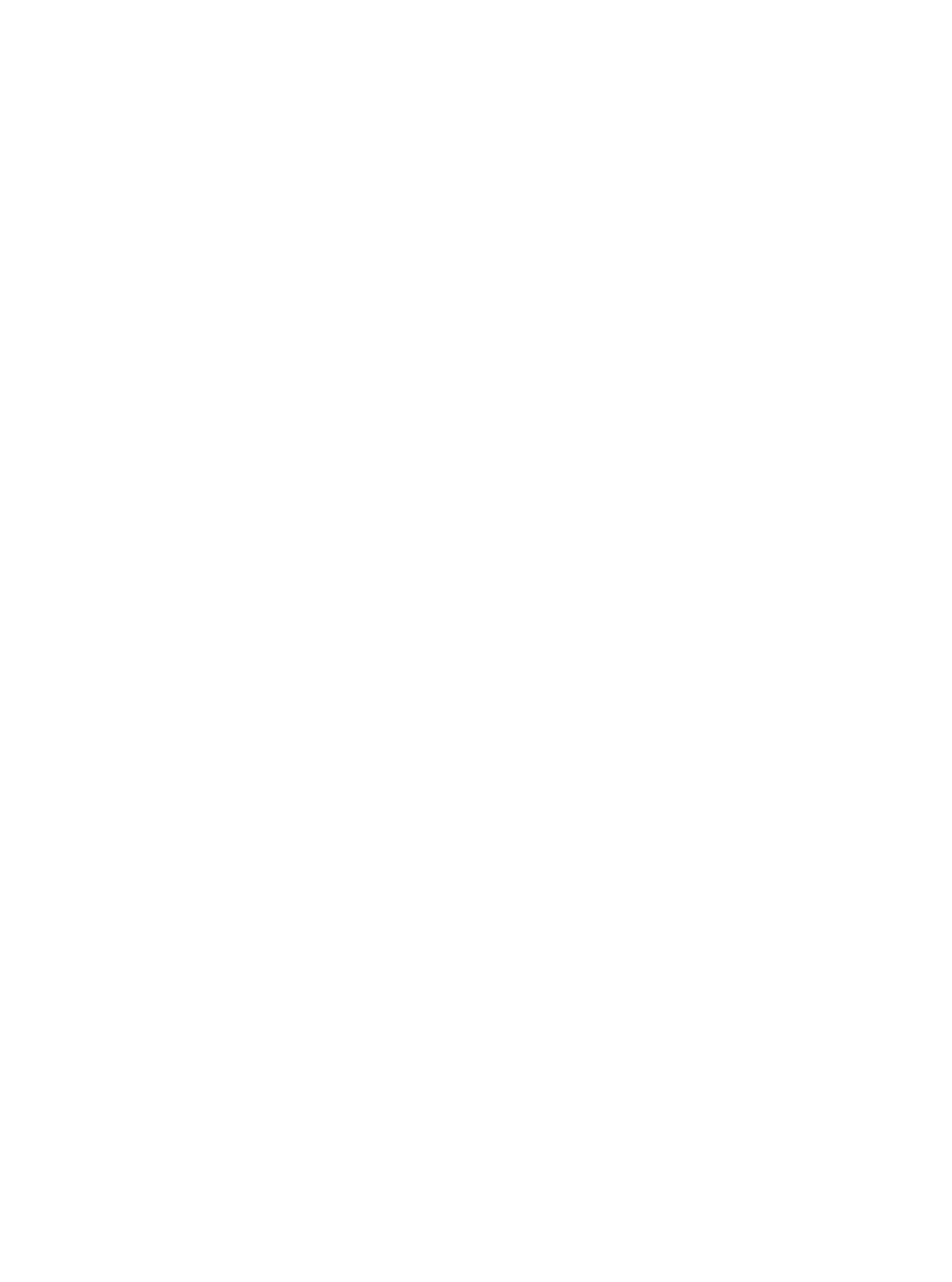
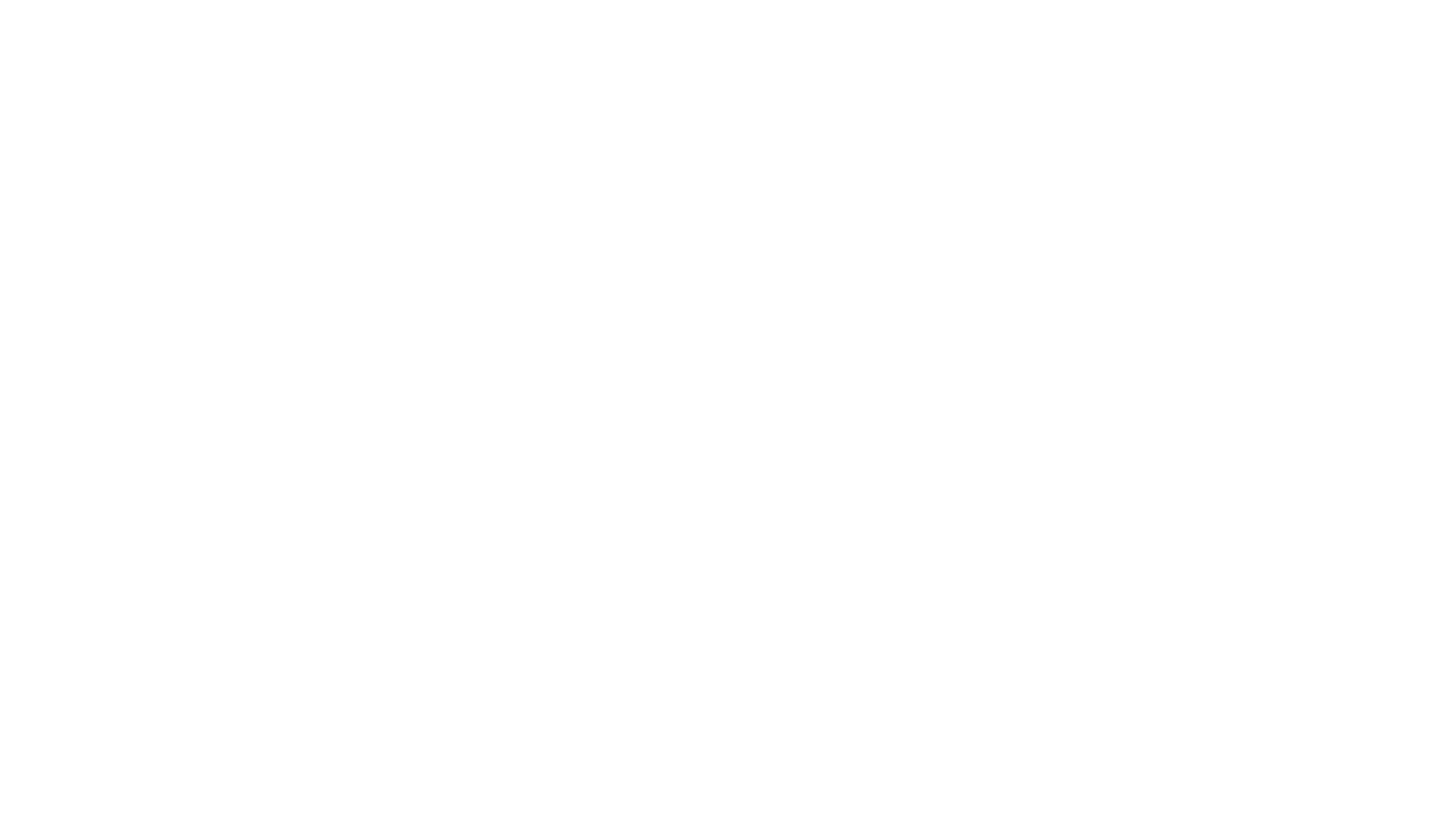
Новая Земля
«Кругом мрачные глыбы синих гор, прорезанные впадинами с нетающим снегом, каменные осыпи скрывают их подножие, а на вершинах лежат облака неподвижно, несмотря на сильный ветер, – суровый обнаженный ландшафт первозданного скелета Земли. И всюду камни, камни, камни – обломки окружающих гор. Прелесть маленькой картины спешно цветущих желтых маков и других растений, ютящихся между камнями.
Становилось холоднее. Пароход «Малыгин» шел во все более тесном окружении льдин уже местного происхождения, тюлени «вставали» между ними, следы белых медведей встречались на льдинах».
В.А. Ватагин. «Воспоминания»
Невесёлая картина вечной круговерти судьбы – хищник нападает, жертва убегает – изображена и на этой фреске. На этот раз жертве не повезло. То ли сытный жирный рыбный обед, то ли еще едва-едва пригревающее северное апрельское солнце сморило в сладкой тёплой дрёме тюленя, но что-то отвлекло его внимание. А медведь воспользовался слабостью и схватил добычу, прежде чем та соскользнула в гладкий темно-зеленый зев проруби.
Но и для успешного хищника охота еще не закончилась. Тюленей не просто мало, а от года к году меньше и меньше, голодных же медведей много тут бродит – надо выиграть конкуренцию с желающими подкрепиться на дармовщинку близкими родственниками. На незваный обед голодных ртов готово заявиться много, но пока появился только один.
Мизансцена проста, сурова и величественна, как всякая картина Севера. И снова горы наблюдают за тщетной суетой у своих подножий. Среди нагромождения высоких обледенелых пиков, покрытых клоками то ли низких облаков, то ли остатками тумана, широким голубым языком, словно дорогое колье из карбункула, спускается в глубокий вырез бухты ледник. Белое безмолвие, так это называется у классиков северного эпоса. В этой тишине тем большим диссонансом звучит глухое и хриплое рычание двух огромных зверей, делящих добычу. Нет, не делящих, а стремящихся отобрать друг у друга.
Паразитировать друг на друге легче и выгоднее, чем добывать пищу в Арктике самому. Как это похоже на нас. Отжать, урвать, схватить, цап-царапнуть, присвоить чужое, отобрать у другого то, что не принадлежит тебе. Хотя и своё-то едва переварить способен. А можно ведь и поделиться, а можно потом вместе заохотить новую добычу. Вместе проще, быстрее, эффективнее, добрее. Но не слышат медведи. Моё! В гневе защищает хозяин своё от чужака, рёв ярости стоит над Белым безмолвием.
В кинофильме Александра Мельника «Новая земля» происходит похожая трагедия – в экстремальной ситуации люди не могут договориться друг с другом, дичают, звереют, превращаются в животных, пожирают друг друга. Сначала в переносном, а потом в буквальном смысле этого слова.
Картина Ватагина написана за 100 лет до фильма, за век до нашего времени. Но её сакральный смысл — «Не убий!» — не перестал быть актуальным для каждого, здесь и сейчас.
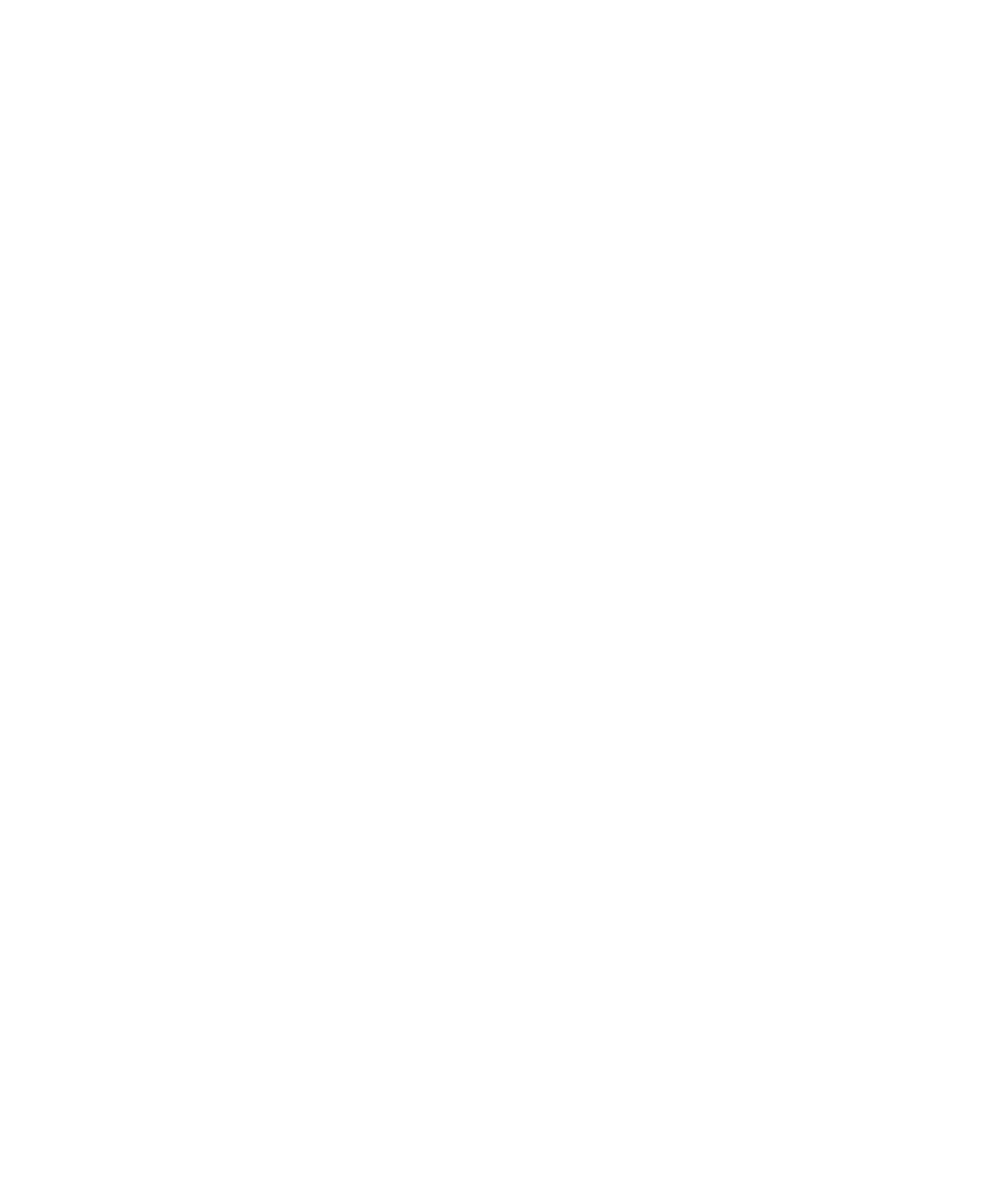
Он опоздал. Закон джунглей в действии. Выживает самый быстрый, самый ловкий, самый хитрый, самый осторожный. Хрустнула веточка под мягкой, но неосторожной полосатой лапой – и твой обед несется, грациозно подпрыгивая, сквозь чащу. Но не в этот раз. Изогнув шею, олень отчаянно пытается ускользнуть невредимым. Видно как напряжены жилы, вытаращены глаза. Поздно. Тигр суров и терпелив, он долго прятался в засаде, чтобы сцапать добычу наверняка. В прыжке растопырил лапы с когтями, готовится обрушиться на хребет оленя двухсоткилограммовой массой, смять, свалить с ног, сомкнуть челюсти на мягкой плоти, обхватить последним смертельным хватом трепещущее тело оленя. Хищник и жертва сольются в объятиях, до этого остался один миг. Олень был горд и самоуверен. Тем страшнее его неожиданное падение. Он потерял всё.
Ватагин считал, что в тигре есть «суровость». Природная независимость проявляется в каждом движении этого грациозного зверя. Несмотря на внешнюю, знакомую по кинематографу, мультяшность фигуры тигра, походка животного заключает в себе элемент внутреннего скрытого напряжения и потенциальной готовности к действию. Именно это панно несёт максимальную колористическую насыщенность и живописное разнообразие, соединяя манеру корпусного письма с тонкой лессировкой фигур животных.
Дальний Восток, дикой природе которого посвящены три из восьми панно, произвел огромное впечатление на Ватагина. Здесь художник побывал в 1928 году во время экспедиции по заданию Музея народоведения, то есть спустя пять лет после издания знаменитой книги Владимира Клавдиевича Арсеньева о путешествии по тем же местам – Амуру и дебрям Уссурийского края, среди гиляков, гольдов и удэгейцев. Нет никаких свидетельств того, что Ватагин был знаком с известным произведением «Дерсу Узала», однако вряд ли такое издание прошло бы мимо него. В повести много места уделено и амбе – тигру – хозяину Уссурийской тайги. Вот как описывает встречу со зверем в тайге сам автор повести:
«Кто не бывал в тайге Уссурийского края, тот не может себе представить, какая это чаща, какие это заросли. Буквально в нескольких шагах ничего нельзя увидеть. В четырех или шести метрах не раз случалось подымать с лежки зверя, и только шум и треск сучьев указывали направление, в котором уходило животное. Погода не благоприятствовала. Все время моросило, на дорожке стояли лужи, трава была мокрая, с деревьев падали редкие крупные капли. В лесу стояла удивительная тишина. Точно все вымерло. Даже дятлы и те куда-то исчезли.
— Черт знает что за погода, — говорил я своему спутнику. — Не то туман, не то дождь, не разберешь, право. Ты как думаешь, Дерсу, разгуляется погода или станет еще хуже?
Гольд посмотрел на небо, оглянулся кругом и молча пошел дальше. Через минуту он остановился и сказал:
— Наша так думай: это земля, сопка, лес — все равно люди. Его теперь потеет. Слушай! — Он насторожился. — Его дышит, все равно люди…
Он пошел снова вперед и долго еще говорил мне о своих воззрениях на природу, где все было живым, как люди.
Не успели мы сделать и 200 шагов, как снова наткнулись на следы тигра. Страшный зверь опять шел за нами и опять, как и в первый раз, почуяв наше приближение, уклонился от встречи. Дерсу остановился и, оборотившись лицом в ту сторону, куда скрылся тигр, закричал громким голосом, в котором я заметил нотки негодования:
— Что ходишь сзади?.. Что нужно тебе, амба? Что ты хочешь? Наша дорога ходи, тебе мешай нету. Как твоя сзади ходи? Неужели в тайге места мало?
Он потрясал в воздухе своей винтовкой. В таком возбужденном состоянии я никогда его не видывал. В глазах Дерсу была видна глубокая вера в то, что тигр, амба, слышит и понимает его слова. Он был уверен, что тигр или примет вызов, или оставит нас в покое и уйдет в другое место. Прождав 5 минут, старик облегченно вздохнул, затем закурил свою трубку и, взбросив винтовку на плечо, уверенно пошел дальше по тропинке. Лицо его снова стало равнодушно-сосредоточенным. Он «устыдил» тигра и заставил его удалиться».
В ответ на предложение подстеречь и застрелить тигра, Дерсу решительно отвечает:
«— Нет, моя не могу. Моя тебе вперед говори, стрелять амба никогда не буду! Твоя хорошо это слушай. Амба стреляй — моя товарищ нету…»
Где гольд Дерсу Узала — дитя природы, и где столичный художник, лауреат Сталинской премии, академик Ватагин? Однако ж, душа и того и другого проникнута мистически-уважительным отношением ко всему живому, и даже дружба между мужчинами зависит от отношения к природе.

Благодаря «Книге джунглей» Киплинга, с тигром у большинства людей с детства устойчивая ассоциация: тигр – это Шерхан, однозначно. Хитрый, коварный, опытный, изворотливый. Опасный, в общем. А что, если нет? Что если тигр – одинокий, уязвимый, ранимый, особенно если старый. Особенно в России. Тигр обычно воспринимается в обстановке джунглей, опять же, из-за истории Маугли. И это правда, но не вся правда. У нас в музее три картины с изображением тигров. И две из них – тигр в снегах.
Мартовская дальневосточная тайга. В горных лесах стоит такая тишина, что далеко-далеко слышен хруст наста, словно кто-то отламывает гигантскую поджаристую корочку правильно испеченного французского багета. Снова и снова отламывает... Это стадо кабанов из пяти взрослых маток и двух подсвинков прошлого года пробирается с ночевки в пихтовом буреломе на кормежку в старый дубняк, проламывая затвердевший за ночь наст. Да ещё иногда слышится короткая трелька, словно две глиняные фарфоровые чашечки позвякивают друг о друга – это стайка ополовников – длиннохвостых синиц – перелетает с вершинки на вершинку в поисках скудного зимнего корма. Но это всё – где-то там, за пределами черной деревянной рамы нашей картины. Даже отъевшиеся на крупных глянцевых желудях кабаны – как объект охоты нас сейчас не интересуют. Потому что главная тема этой картины – лавстори. Садитесь поудобнее, запасайтесь попкорном, хотя… в этой истории он и так уже есть.
Её герои – пара амурских тигров. Тоже самец и самка, тоже вместе, больше никого на картине нет. Но это совсем другая история, не как у африканских львов, тут явный happy end. Да это и понятно – молодость, ей всё по колено. Тем более весна, длинные сиреневые тени, тающие снега, удовые ароматы сырой коры и мха, едкий аммиачный запашок клочьев кабаньей шерсти и такой внезапно острый запах попкорна в масле. Что это? Откуда? Если вы в отрогах Сихотэ-Алиня поймали струю такого запаха, возможно у вас проблемы. Потому что именно так пахнет метка, которую оставляет самка тигра в поисках своего партнера.
Ракурс картины немного странный, мы смотрим на тигров немного сверху – то ли с охотничьего лабаза, устроенного на дереве, то ли с противоположного склона распадка. Именно поэтому всю нижнюю половину картины занимает этот яркий весенний снег с синими пятнами следов, а верхняя часть холста отведена двум главным полосатым персонажам.
Здесь, в окоёме картины, всё уже случилось. Они друг друга нашли. По следам или запаховым меткам, не важно. Важно то, что пара тигров готовится к брачному сезону. Самец справа крупнее, самка помельче, но тоже изящная. Тигр наклонился и вылизывает языком бархатную шкуру тигрицы. Художник ловко передал скупыми средствами – позами животных, стоящими встречь друг к другу, голова самца развернута и нависает над самкой, её голова склонена вниз, да и всей обстановкой тихого солнечного мартовского дня – что обоим тиграм нравится всё, что происходит. Ну и нам тоже))
Хотя, постойте… нам не все нравится, а уж тиграм – тем более. Ведь на картине указан год её написания – 1936. У-у-у… с тех пор много воды в Амуре утекло. Умер уже гольд Дерсу Узала, который уважительно разговаривал с тигром-амбой, встретив того на тропе, путешествуя с русским исследователем Дальнего Востока Арсеньевым. Да и сам Владимир Клавдиевич уже давно умер. Некому защищать и уважать дикую природу, писать о ней книжки, которыми зачитывались целые поколения. Какие такие поколения? Поколения – это проект будущего, а у нас нет никакого проекта. У нас есть план. Суточный план вырубки сибирской тайги. Нет, не пятилетний. Что будет через год, месяц, да даже неделю, – об этом мы не задумываемся. Нам сегодня надо отправить своему большому Восточному соседу деловую древесину. А тигры? Ну, им просто не повезло. Они не вписались в рыночную экономику просветленного потребителя. Ведь потребитель не читал ни «Маугли», ни «Дерсу Узала». Зачем ему это?
Наедине с главным хищником планеты. Тревожность
Вторая картина с полосатым висит в кабинете директора музея, посетители её не видят. Но здесь уже нет Согласия. Здесь – Тревожность. Она и на картине, и и в глазах и во все напряженной позе тигра. Куда податься? Везде неизвестность, опасность. Сейчас это не охотник, это жертва. Главный хищник планеты скрадывает верховного хищника. Тигр изображен на фоне невысокого холма, поросшего редким кустарником. Что там, за его гребнем – тигру тоже неведомо. Возможно, это последний туранский тигр, который истреблен окончательно и бесповоротно в середине прошлого века в Центральной Азии. Последнее его прибежище – особый ландшафт в месте слияния рек Вахш и Пяндж. Тугаи – плохо проходимые кустарниковые заросли в поймах азиатских рек. Тут можно спрятать армию Чингис-Хана, не то, что десяток тигров. Но люди и их «оптимизировали». Не осталось туранских тигров, только картина в кабинете директора Зоологического музея и шкура с деревянной биркой в хранилище отдела териологии. Шкура последнего туранского тигра, убитого пограничниками – так на этикетке и написано.
Это грустная история…
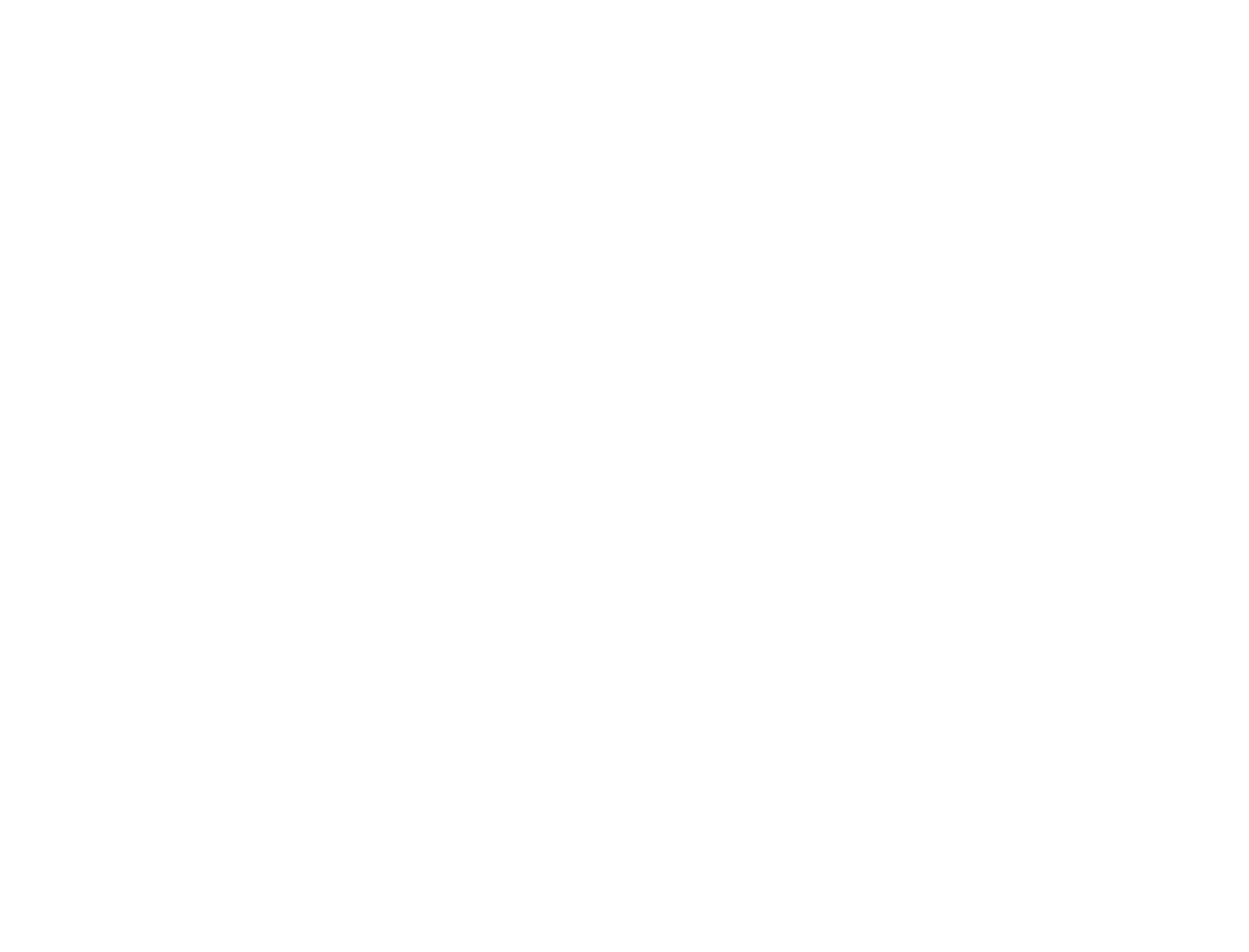
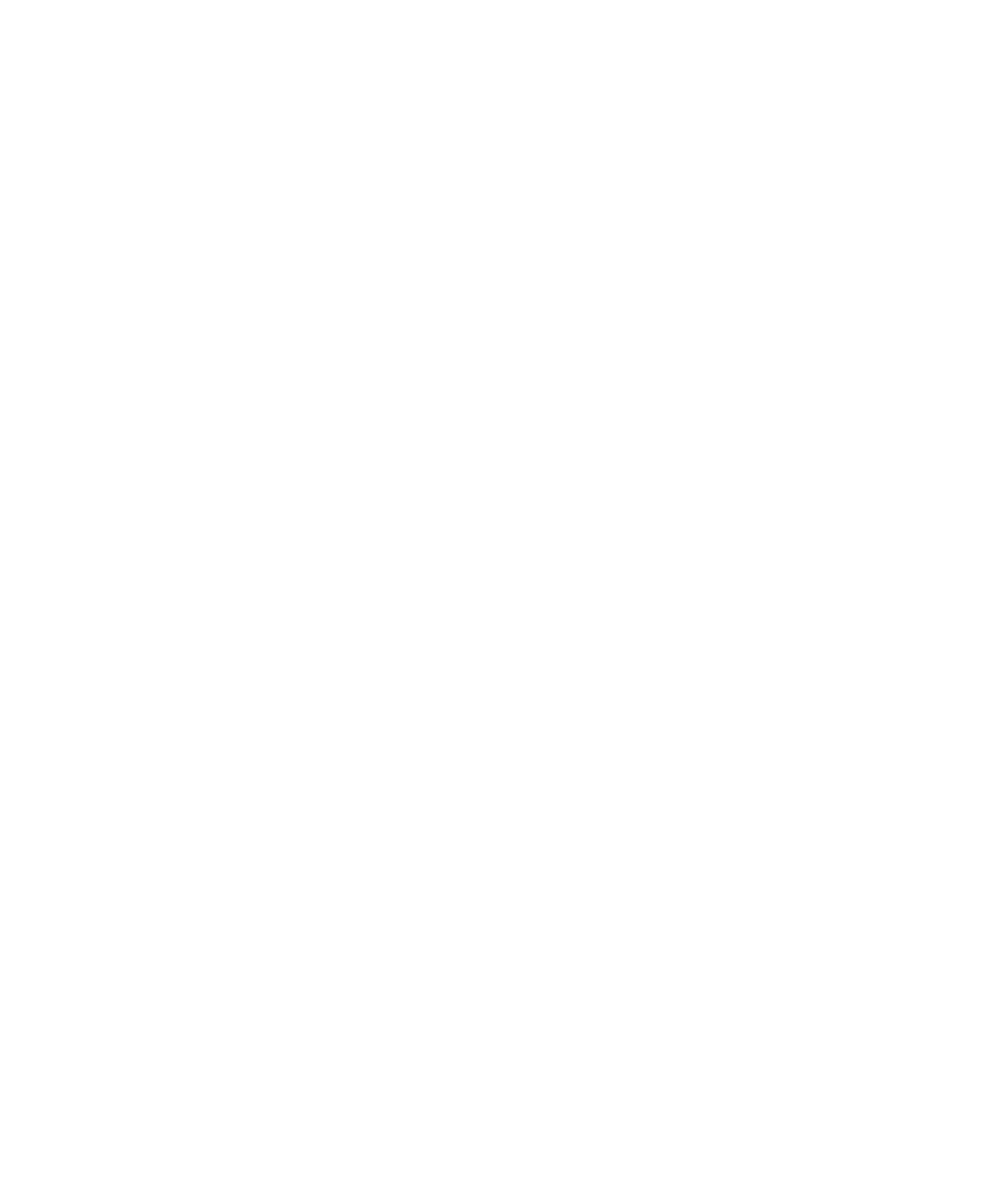
«Всё бралось живое, трепещущее и прикреплялось к холсту, как прикрепляют насекомых в коллекции.»
Казимир Малевич
Лососево-розовый, канареечно-желтый, или карминно-красный, внезапно вторгаясь в невнятное бормотание тусклых зеленых, лиловых, бронзовых тонов, зажигает здесь фейерверк красок. Эта картина похожа на сполохи тропического цвета у Гогена. Свежее, шумное, теплое летнее утро в пышном и густом первобытном тропическом лесу. Они встречают его: нацелив свои длинные нелепые яркие клювы в сторону восхода. Венесуэла, окрестности таинственного плато Рорайма, а может быть центральная Бразилия, или верховья реки Ориноко. Туканы распространены по всей Амазонии. Компания громкая, крикливая, веселая, неуёмная в своем постоянном движении – перескакивании по кронам деревьев в поисках сочных плодов.
Сначала даже трудно понять, пейзаж перед нами, портрет, или натюрморт, или вовсе красочные декорации Бакста к балету «Жар-птица». Так внезапна вспышка цвета на этой картине среди сумрака музейного зала.
Как часто бывает у Ватагина, пластическая композиция сюжета решена за счет нескольких пересекающихся диагоналей. Они образованы направлением ветвей деревьев, на которых сидят птицы и линиями, по которым направлены их гротескные клювы. Они указывают глазу зрителя нужное направление, уводят взгляд в глубину леса, где под светло-голубым прозрачным небом первые лучи восходящего светила сквозь невидимый туман мягко озарили вершины самых высоких деревьев.
На картине собрались четыре птицы трех разных видов: нижний правый – красногрудый, верхний и нижний левый – большой тукан, верхний правый – радужный. На заднем плане, через большой прогал в лесу летит еще пара этих черных птиц с эффектными, словно приставленными клоунскими носами. Вместе с настороженными позами птиц переднего плана, всё это передает эффект движения на картине – вот сейчас, в следующую секунду птица спрыгнет с ветки и полетит вниз.
Необычен ракурс картины: художник словно забрался вместе с туканами на высокое дерево, чтобы вместе со всеми обитателями леса встретить рассвет над джунглями.
«Туканы» – самая сочная и красочная картина Ватагина из тех, что находятся в Верхнем зале музея. Она создает впечатление фестивальности происходящего – это мир прекрасно упорядоченного хаоса – галдеж беспокойных птиц, причудливое кружево ветвей тропических деревьев, ажурный узор листвы, сплетенный из пятен света и тени. Джунгли приготовили изящную ловушку для солнечных лучей, а птицы застыли в ожидании начала этой увлекательной утренней игры.
Эта картина издалека похожа на свежую палитру энергичного художника – так бодро и как-будто небрежно разбросаны по ней цветовые пятна. Несмотря на попытку придать объём при помощи тональных переходов от темных участков к светлым и диагональным направляющим перспективы, изображение кажется плоским и подчернуто декоративным. Оно похоже на портрет румяной красавицы, завернувшейся в яркий павловопосадский платок.
Картина передаёт живой перфоманс дикой природы, превращая обычную сцену просыпающейся сельвы в произведение искусства. Пышный колорит, динамичная игра полутонов и световых контрастов выражают суть летнего буйства жизни.
К картине с туканами я подходил несколько раз, стоял, пыхтел, морщил последние извилины, пучил с усилием высохший мозг, но никаких мыслей, кроме того, что это просто красиво, не надумал. Рядом с этой картиной лучше остановить внутренний диалог поиска смыслов, вместе с которым исчезнет беспокойство и тревожность, останется только красота тропического леса, ярких птиц, оттенков цветов и пятен света. Возможно, в этом её главная суть. Художник пытался уловить состояние праздника, состояние счастья момента «здесь и сейчас». Есть утро, есть солнце и птицы, есть свет и воздух, и в этом уже есть правда и смысл жизни, а картина – просто часть большого мира.
Возможно «Туканы» Ватагина – это небольшое отступление, полшага в сторону абстрактной живописи, отход от его идеи картины как точного описания природы или животного. Здесь уже больше впечатления, передачи неуловимого состояния, которое вот-вот исчезнет, как легкое покрывало туманной дымки над джунглями. На глазах поднимающееся солнце осветит лес и робкое очарование раннего утра растает.
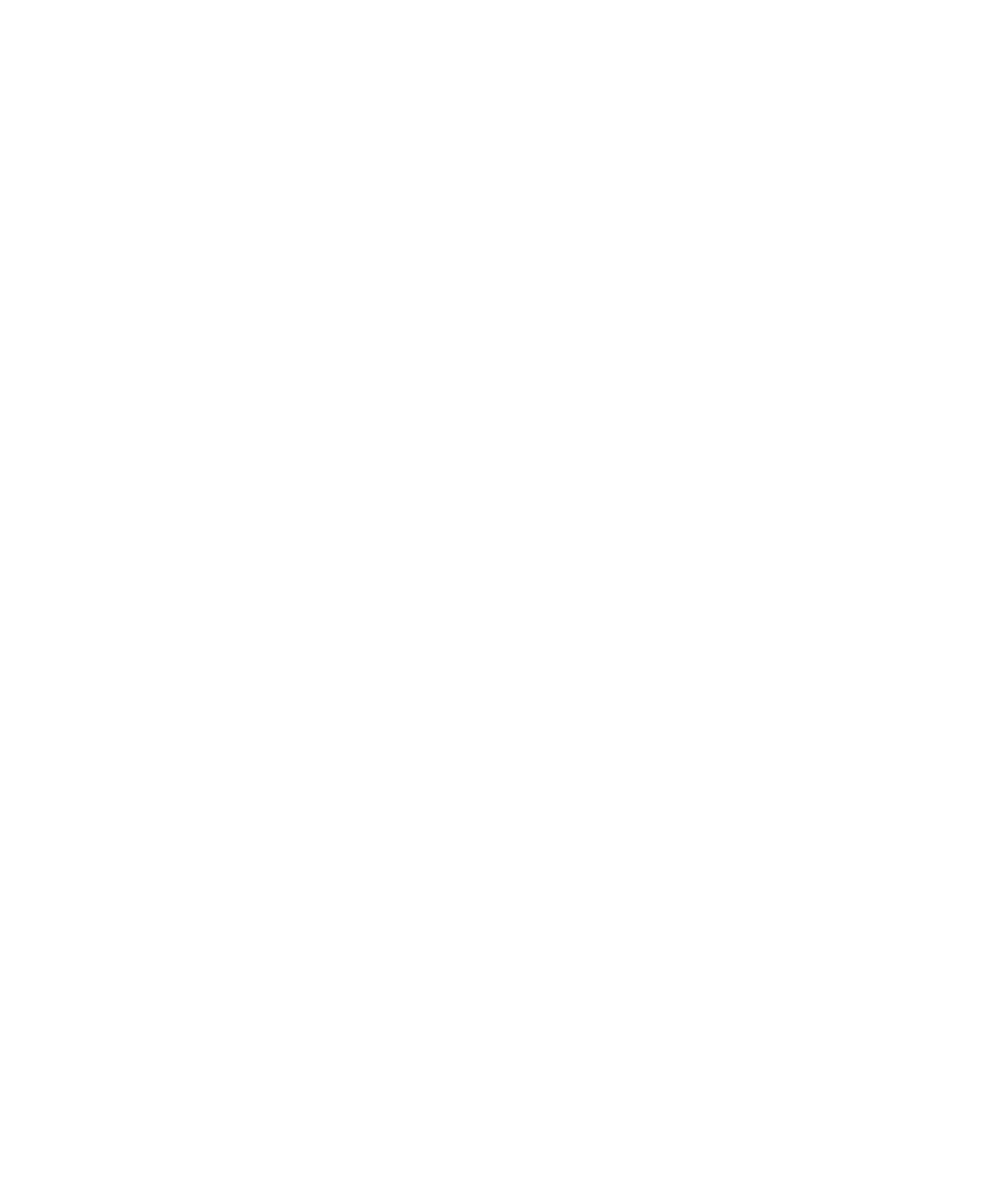
Закрыть её в квартире, а ключ положить под коврик снаружи. Чтоб не шастала по своим шоппингам, маникюрнным салонам, девичникам, да вечеринкам, а об детях бы заботилась. А то нарожала… И всё время норовит слиться от обязанностей. Тыжмать!
Можно это еще назвать домашней тиранией и насилием над свободой личности сильной и независимой самки, это смотря под каким углом рассматривать ситуацию.
Но факт остается фактом, птицы-носороги для гнезд выбирают дуплистые деревья, и после короткого периода любви твердо – во всех смыслах – замуровывают будущую мать семейства в дупле. Дырку замазывают глиной так, чтобы кроме кончика клюва в оставшееся отверстие ничего не пролезло. Да, радикально, и что?
Да, с гигиеной в этом гнезде так себе, что поделать. Удобства внутри номера, но это скорее минус сразу две звезды, чем условия класса люкс.
И теперь получается, что выживание самца является ключевым моментом жизни всего уже многочисленного, копошащегося внутри замурованного дупла потомства вместе с самкой. Изнутри они выйти на свободу без посторонней помощи не способны.
Не для того ли и клюв такой у птиц-носорогов, чтобы, когда придет время, взломать бункер со своим уже многочисленным семейством, которое пробудет потом с родителями следующие полгода, осваивая навыки самостоятельной жизни.
— Милый, то что ты запер меня внутри, ещё не означает, что мы не поедем знакомиться к моей маме!
— Дорогая, ты просто не понимаешь, это – другое! Это всё ради твоей же собственной безопасности. Это отличная защита от хищников, а о еде не беспокойся, я организую регулярную доставку из Вкусвилла свежих плодов и других деликатесов, вроде ящериц, лягушек и птенцов других птиц. Тебе сейчас важно белковое питание и витамины. И минимум волнений!
— Что-то мы не с того начали, дорогая, давай попробуем снова, с чистого листа. Давай начнем с доверия, а закончим ответственностью.
Вот скажите честно, положа руку на сердце — какая из вас на такое решится? Вот чтобы на два месяца замуровать себя в дупле с мелкими спиногрызами без каких-либо средств к существованию? Без семейного психолога, материнского капитала, службы опеки и тем более без адвоката по делам семьи и материнства?
Дурных нет…
А самка птицы-носорога доверяет. Полная… Полная зависимость от супруга! Вот что он принесет, то она и кушает, тем и кормит. И посмотрите, как… КАК она на него смотрит из этого дупла. Изогнув длинную грациозную шею, снизу вверх, глаза в глаза. Го-о-о-споди! Пошли мне такой взгляд! Пожалуйста! Влюбленные глаза! Руку за такое отдам!
А вот если с другой стороны рассмотреть. Девчонки, в чем счастье нашей бабьей жизни? Чтоб был красивый, богатый, фигуристый, накачанный, с кубиками вместо отвислого пуза? Н-е-е-е… Я вам скажу: главное — терпеливый и ответственный. Вот всё, что для счастья нужно. Как самец птицы-носорога… В принципе, он, конечно, хорош! Он брутален. Не в прямом смысле этого слова — грубый, невежественный, тупой, не развитый – нет, а в смысле… крутой… Ну вот он крутой! Один! Тащит на себе – ВСЁ! В самом прямом буквальном смысле. И в магазин, и на работу, и в банк за ипотеку заплатить, и постирать себе и погладить, и машину в ремонт отдать, и огород полить… Всё на нем, на отце и муже. Доверие рождает ответственность.
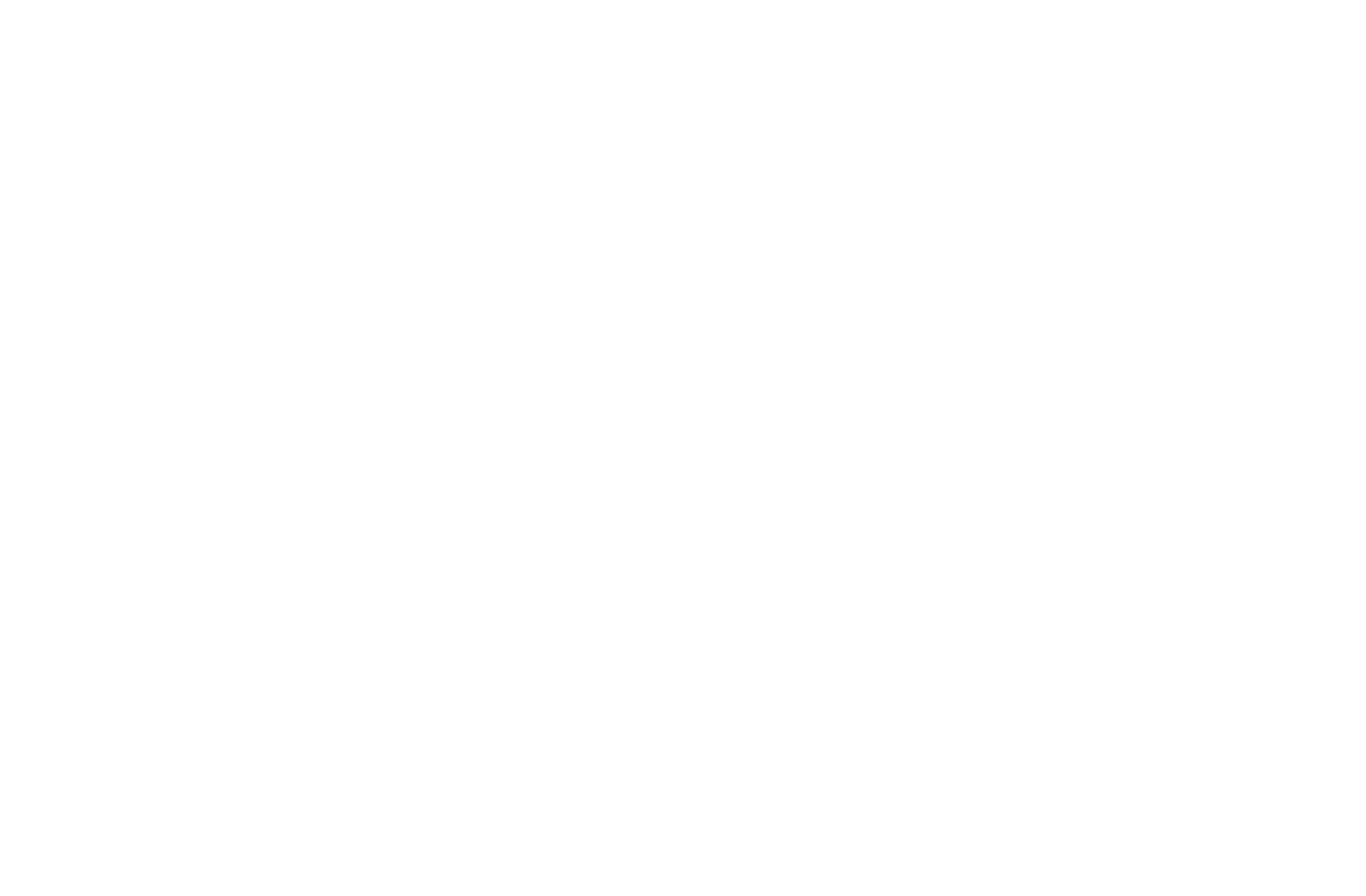
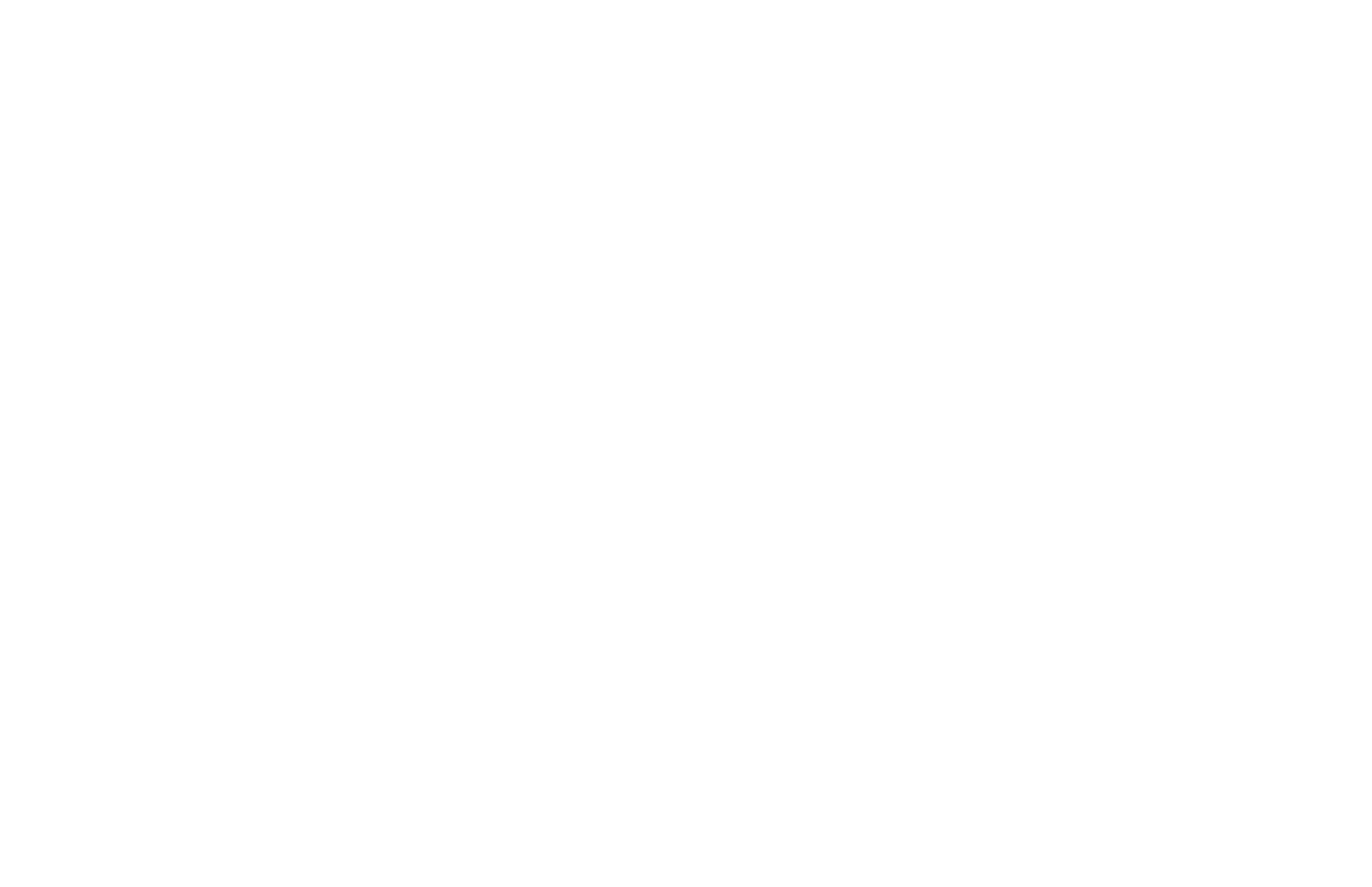
Он независим и нагл, но забавен – голова лысая, с редкими пушинками на затылке, которые смешно шевелит ласковый теплый африканский вечерний ветерок. Поначалу он производит впечатление довольно милой старушки-божьего одуванчика. Сквозь желтоватый пушок просвечивает морщинистая, в многочисленных складках и старческих серых пятнах, кожа. Впереди болтается, тоже весь в складках, кожистый розовый мешок. Если он не двигается, то стоит, словно сильно ссутулившись. Но это впечатление некоторой придурковатой отстраненности очень и очень обманчиво.
Палец в клюв марабу – а это он, самый крупный африканский аист – лучше не класть. Потому что клюв у него огромный, мощный, если потребуется, ка-а-ак даст им, мало не покажется никому. Вся его фигура такая солидная, спокойная, не суетливая. Он совершенно уверен в себе. И есть от чего. Это профессиональный работник сферы ритуальных услуг Африки. Работник года, можно сказать. Он медленно, не торопясь, осматривает окрестности – в Африке спешить не стоит. Вот где-то вдалеке, в неясной поволоке дрожащего полуденного марева появилась группа парящих белоголовых сипов – они первые замечают на бескрайних просторах саванны падаль. То ли погиб едва родившийся теленок антилопы гну, весь в липких родильных пленках, то ли умер от старости слон со сломанным правым бивнем, или гиены с хохотом снова что-то утащили у львов-ротозеев. Любое тело в саванне достойно того, чтобы расправить двухметровые черный крылья, сделать короткий разбег на нелепых длинных ногах, и подняться в воздух. Марабу прекрасно летает для своего почти полутораметрового роста и в целом неуклюжей фигуры. А уж когда прибудет на место, не даст спуску никому.
Марабу изображен на картине В.А.Ватагина в компании других аистов. Здесь, на берегу вечерней реки кроме него собрались, видимо на ночёвку, седлоклювый аист ябиру и африканский клювач. Это прям готовая банда во главе с крёстным отцом – марабу. Да и кликуха подходящая для криминального авторитета. Э-э-э, Марабу, ты что, рамсы попутал?
Физиономия марабу индифферентна. Покер-фейс. Но клюв определяет все! И вот судя по клюву и взгляду, этот марабу – вылитый Роберт де Ниро. Ну просто вылитый! Но уже не тот, что на излете карьеры, в «Дедушке легкого поведения», а вот скорее где-то на своем голливудском пике, когда на афишах его в основном именно в профиль показывали. Нет, ну просто поразительное сходство.
И вот где тут композиционный центр картины? На кончике носа Роберта де Ниро, конечно, ну то есть на кончике клюва главного марабу. Остальные четыре персонажа показаны так, словно они идут на поклон к главному, к Крестному отцу. Хотя он расположен не на переднем плане, его фигура самая крупная, массивно серая, он уверенно и основательно стоит на крепких прямых ногах. Это единственный персонаж, фигура которого не изломана, который задает и держит вертикаль картины, в отличие, например, от обоих аистов-ябиру, один из которых вообще сидит коленками назад, а второй – словно католический епископ на аудиенции у папы римского – подобострастно подходит под поцелуй рубинового перстня или папской атласной туфли.
На картине марабу–Крестный отец показан в профиль. Вам кажется, что вы смотрите на изображенное существо. И часто оно словно знает это, позволяет на себя смотреть, добивается, чтобы на него смотрели. Таковы, например, все кошки, что львицы, что ягуары. Им нравится, когда на них смотрят. И это выражают все их портреты. Изящность движений чувствуется даже в статичном рисунке. Они так царственно и грациозно показывают совершенство своего тела, подставляют себя восхищенным взорам. Им нравится, что они нравятся. Они разыгрывают комедию собственного существования, смысл которого – знать, что на тебя смотрят, заставлять на себя смотреть, нарочно привлекать к себе общее внимание. Глядеться в глаза зрителя и видеть там только лишь своё отражение, ничего более.
Но то кошки. А перед нами – сутулый мрачный марабу. И с ним всё совершенно по-другому. Не вы разглядываете его, а он вас. Хотя даже вроде бы и не смотрит в вашу сторону. Но его взгляд всё контролирует. Он – центр, который собирает линии всех остальных участников этой сходки. Он собрал эту малину, создал вектор общего призыва и действия, он молча обращается ко всем участникам, молча они его слушают. Именно этот общий призыв, а не деревянные рейки рамы, не дает композиции и сюжету разваливаться, рассыпаться, разбегаться и разлетаться. Пускаться наутек. Он их во как, вот здесь вот держит! Это не простое сочетание случайных персонажей, здесь общая идея, смысл, точнее, заговор...
Мы не знаем, что они там задумали, но они точно что-то задумали. Может, вовсе и не на ночёвку они собрались на илистом берегу этой вечерней реки, а вынашивают какие-то криминальные планы. Да судя по выражениям их лиц, не веселую вечеринку они затевают. Нам не видно, что происходит слева, за краем картины, куда устремлен взгляд марабу. Может, лежит там на мелководье речной лагуны кверху лапками дохлый бегемот, которого он первым обнаружил. Такого подарка судьбы все давно ждали. Это как сорвать крупный куш, хватит надолго. Но одному с такой тушей не справиться, тут нужен коллективный разум. Нужна организованная преступная группировка. Вот и собираются к своему пахану Марабу братки – Ябиру, Клювач, Разиня и Молотоглав и пара младших братьев на подхвате. Ну, чем не воровские кликухи? И хорошая же компания подобралась!

Ошибка выбора или обманутые надежды
Mea Culpa
Дикая, необузданная, живая. Чувственная. Непоседливая, свободолюбивая. Взбалмошная, непредсказуемая, дерзкая. Трогательная. Стремительная в своих порывах, непокорная, как и степной ветер, который закручивает и несёт сухость выцветших трав с равнин куда-то к далёким, дрожащим в мареве лиловым горам. Чёрные глаза её затуманиваются, когда часто и подолгу смотрит сквозь горизонт на низкие отроги и главный хребет в снежных пятнах.
Сейчас они недостижимы, едва видны, сейчас не до них – пришлось откочевать с детёнышами на речные сочные зеленые луга.
Рыжая. Масть рыжая, а грива – иссиня-чёрная и жесткая, как стерня под копытами. Здорово бывает на всем скаку мотнуть непокорной копной спутанных диких волос, запрыгать, забрыкаться, завертеть головой и хвостом, таким же черным, как и грива. Вспомнить все безумства беззаботной молодости. Как неслись вдвоём галопом, прижав чуткие мягкие шерстяные уши и вытянув в прямую звенящую струну поджарое мускулистое тело в витках толстых жил, наперегонки с суховеем, над ковыльной равниной. Все равно куда, на кураже, лишь бы струна не фальшиво звучала.
Лошадь Пржевальского. Дикая, необузданная, живая. Пока ещё живая. От нас зависит, будет ли она бегать по зеленым сочным лугам, сейчас это вымирающий вид, с ней надо поосторожнее, норовистая она, недоверчивая к чужакам.
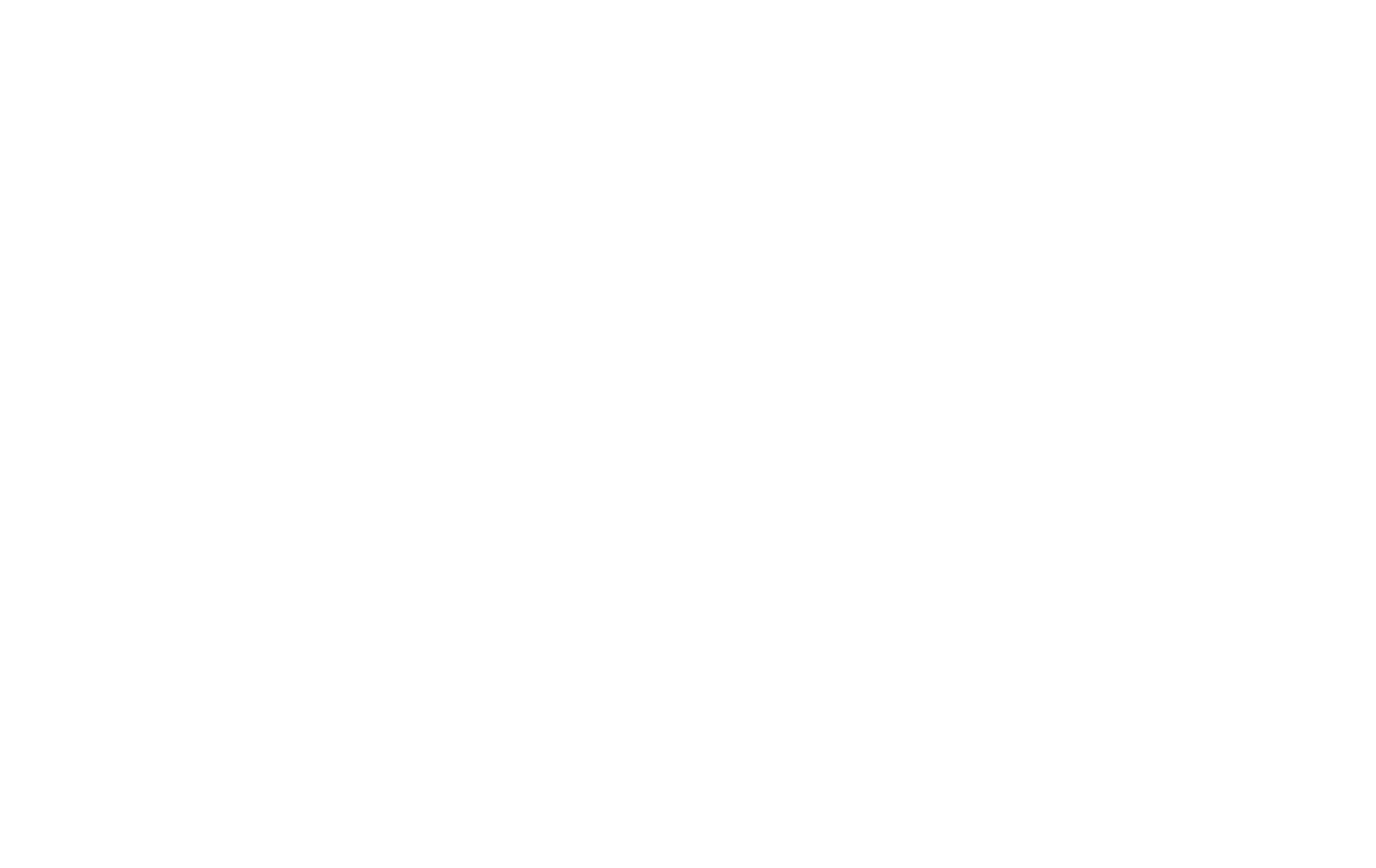
Но вот по болотам огромный
Идёт и ревёт бегемот,
Он идёт, он идёт по болотам
И громко и грозно ревёт.
А Таня и Ваня хохочут,
Бегемотово брюхо щекочут:
«Ну и брюхо,
Что за брюхо —
Замечательное!»
Не стерпел такой обиды
Бегемот,
Убежал за пирамиды
И ревёт,
Бармалея, Бармалея
Громким голосом
Зовёт:
«Бармалей, Бармалей, Бармалей!
Выходи, Бармалей, поскорей!
Этих гадких детей, Бармалей,
Не жалей, Бармалей, не жалей!»
К. Чуковский. «Бармалей»
Медведи метят территорию, высоко вставая на задние лапы и делая задиры на стволах деревьев когтями. Такие деревья в лесу — как старый дверной косяк в доме многодетной семьи или в коммунальной квартире, где синим химическим карандашом отмечали рост детей по мере их взросления. Вот Колька в 9 лет… Васька в свои 8 был на два сантиметра выше, а потом Колька его обогнал. А уж Машуня быстрее всех вымахала, вон какая умница длинноногая…
Другие звери метят свою территорию запаховыми маркерами. Вот про собак вы знаете, как это происходит. Также используют резкий и стойкий запах кошки, лисы, волки, росомахи, куницы, олени, антилопы и многие, многие, другие.
Но вот бегемот метит свою территорию очень своеобразно.
Бегемот, бегемот, а почему у тебя такие огромные зубы, ведь ты же водной растительностью питаешься?
А это, дети, потому, что мы, огромные гиппопотамы, сражаемся за самок и прогоняем молодых самцов со своей территории. А зубы и большая масса — наше главное оружие.
Бегемот, бегемот, а почему у тебя такая огромная пасть с челюстным суставом, который может почти на 150 градусов разводиться?
А это, дети, потому, что мы, огромные гиппопотамы, много сражаемся за самок и прогоняем молодых самцов со своей территории. А огромная пасть с таким суставом, чтобы нанести противнику максимально возможный ущерб и вытолкать его со своей территории.
Бегемот, бегемот, а почему у тебя такая толстая шкура?
А это, дети, потому, что мы, огромные гиппопотамы, много сражаемся за самок и прогоняем молодых самцов со своей территории. А чем толще наша шкура, тем труднее ее пробить острыми зубами наших противников.
Бегемот, бегемот, а почему у тебя такой смешной хвостик, он похож на кожаную щетинистую лопаточку?
А это дети, потому, что мы, огромные гиппопотамы, много сражаемся за самок и прогоняем молодых самцов со своей территории. А хвостик нам для того, чтобы было сподручнее вертеть им на 360 градусов во время дефекации, разбрасывая на много метров вокруг помет с сильно пахнущими веществами, запах которых показывает другим самцам, кто здесь главный… Вот так мы, бегемоты метим свою территорию.
Наслаждайтесь видом бегемота, пока он спокойно отдыхает на берегу водоема. В гневе этот зверь становится самым опасным животным Черного континента. Не ходите, дети, в Африку гулять. А тем более не стоит дразнить бегемота и щекотать ему брюхо. Акулы, крокодилы, гориллы и даже сам Бармалей покажутся вам после этого детскими игрушками по сравнению с атакой рассвирепевшего самца бегемота.
Многие картины Василия Ватагина легко отнести к одному из трех основных жанров живописи. Беломорские валуны с чайками и крачками, одинокий остров альбатросов, панический бег ориксов, лоси в осеннем лесу, павиан на развалинах старого города – всё это и композиционно и содержательно однозначно трактуется как пейзаж. Но вот в случае картины с изображением бегемотов – это скорее, портрет. Причем портрет семейный.
На картине изображено два… тела. Одно тело – скорее всего, это самка – лежит на горячем песке, нагретом полуденным солнцем, мордой к нам, и на нас смотрит. Над ней стоит, основательно упираясь толстыми короткими ногами в мягкий податливый песок, вторая туша. Скорее всего, это самец. Его тело покровительственно и одновременно с чувством права собственника нависает над самкой. Бегемот распахнул свою огромную розовую складчатую пасть — не в приступе внезапно накатившей зевоты, он раскрыл её не просто так. Самец бегемота демонстрирует окружающим то, с чем им придется столкнуться, если они попробуют посягнуть на его собственность — нижние клыки бегемотов вырастают до 60 сантиметров. И они предназначены именно для нанесения ран противнику.
Две огромные лоснящиеся туши бегемотов занимают большую часть полотна. И чем больше смотришь на них, тем отчетливее ощущение, что рама картины не в силах уже сдерживать эти мягкие складки, эти толстые пупырчатые щёки, это розовое трясущееся брюхо, и всё это богатство плоти вот-вот вывалится на нас, прямо вот сюда, в зал музея. И, нелепо скользя по мокрому кафельному полу короткими лапами с копытцами на четырех пальцах, с досады вертя своим щетинистым хвостиком и разбрызгивая вокруг помёт, бегемот будет недоуменно озираться по сторонам, не въезжая с ходу, что это вдруг случилось и как это вдруг произошло, что с берегов теплой и сонной родной реки Лимпопо он вдруг оказался в зимней снежной Москве. И внезапно увидев в витрине собрата, стоящего под стеклянным колпаком, рванет к нему со всей возможной для бегемотов скоростью, разевая клыкастую пасть и круша весь наш академический чопорный интерьер. Звонко звенит толстое стекло, падая на метлахскую плитку, хрустит под копытцами туши, несущейся на всех парах между витринами, разбегаются и прячутся посетители и дежурные по залам, и только музейная пыль оседает в косых лучах вечернего солнца, освещающего песчаный берег теплой африканский реки на опустевшей картине Василия Ватагина.
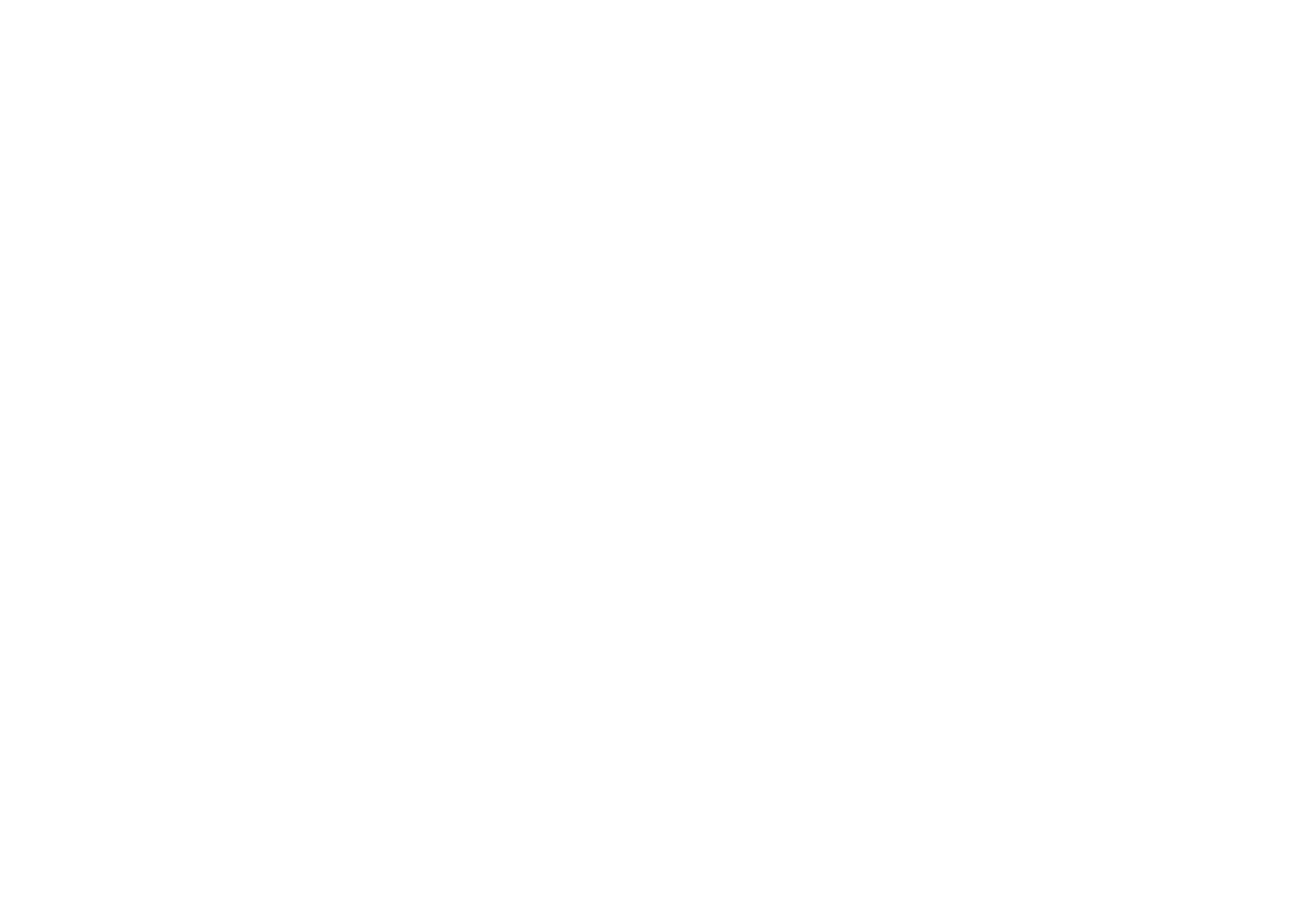
Mirabilis elationes maris – Сильные волны морские. Псалом 92, 3-4
Самый дальний, темный угол Верхнего зала музея. Над витринами с китами. Или, как сейчас их требуют называть – китопарнокопытными.
Неспокойное море, высокая океанская зыбь поднимается, заслоняя мрачный штормовой горизонт с беспорядочно и бессмысленно бегущими в разные стороны лиловыми облаками. Точка, с которой мы смотрим на происходящее, расположена очень низко, между острыми гребнями прозрачных валов, как их любит изображать Айвазовский. Вздыбленный простор Тихого океана, черный гористый пейзаж, который видит капитан со своего промокшего, накренившегося мостика. А может быть это точка зрения кого-то, кто терпит в море бедствие в протекающей ободранной деревянной шлюпке без весёл, и перед ним разворачивается эта величественная и ужасная одновременно, картина невыносимо пустынного, нестерпимо равнодушного океана. Нет в нём жизни. Хоть волком вой, хоть совой кричи. Не будет тебе ответа. Нет в нём жизни, которая могла бы помочь тебе сохранить свою жизнь в мрачной безбрежности. И одновременно океан в бесконечном своём движении – символ жизни. Океан – дающий жизнь, и её забирающий.
Слабый солнечный луч, едва пробившись, растолкав бегущие по низкому небу облака, подсвечивает изумрудную воду. Как надежда на спасение терпящих бедствие, до рези в слезящихся воспаленных красных глазах всматривающихся в горизонт между плящущих в полном беспорядке зелеными волнами – парус, корабль, дым, земля? И вдруг, вода буквально вскипает вокруг шлюпки – группа небольших дельфинов – морских свиней – выскакивает, чтобы вдохнуть свежего морского воздуха и снова провалиться в небесный аквамарин в погоне за стаей розовых кальмаров.
Ты не один! Держись, брат! Мы тут рядом, мы с тобой…
Когда идёт дождь, когда в глаза свет
Проходящих мимо машин и никого нет
На дорожных столбах венки, как маяки
Прожитых лет, как ты в пути
Третью жизнь за рулём, три века без сна
Заливает наши сердца серым дождём
И кажется всё по нулям — кислород и бензин
И с кем-то она, но всё-таки знай: ты не один
Ты не один
Ты не один
Мы не одни, друзья, посмотрите, сколько нас
Ветви старых дорог хлещут тебя по лицу
Нас гоняет по свету ветер и рок
Золотая листва, полыхая огнём
Вместе с верностью рвётся к концу
Лишь ночной чернозём, чернозём
Да в небе звезда
Ты не один
Ты не один
На дороге туман, нам мерещится дым
Ты уехал за счастьем, вернулся просто седым
И кто знает, какой новой верой решится эта борьба
Быть. Быть на этом пути
Наша судьба
Ты не один
Ты не один
ДДТ
Не Айвазовский, конечно, но сцена динамичная.
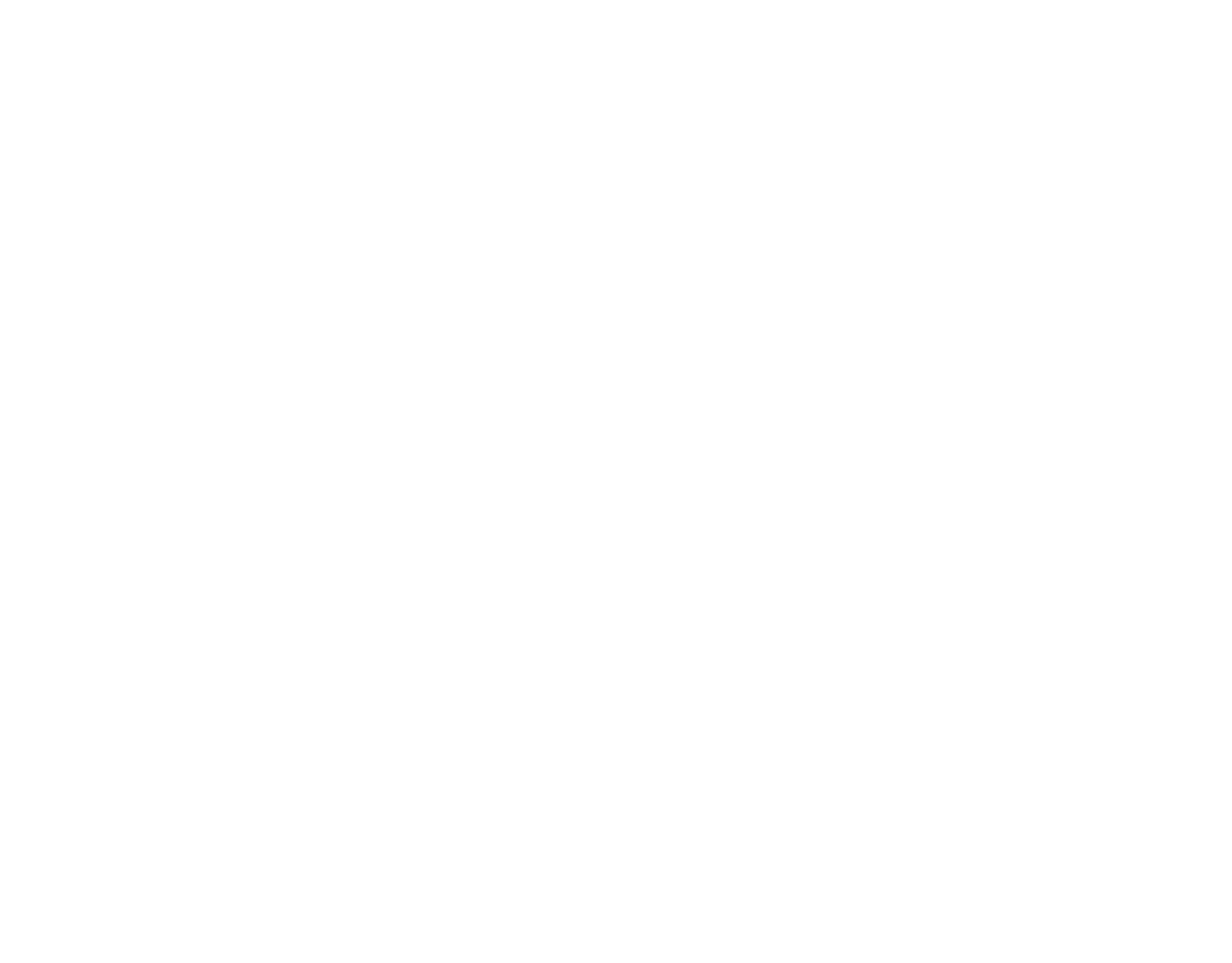
Итак, что у нас тут, на этой динамичной картине?
Есть море. На море не ладно. Море вздулось, на море буря бушует, да такая, что небо черным-черно, ветер с запада подгоняет облака, и волны ходят, похожие на горы, увенчанные белою пеною, и ударяются о скалистый берег, и нет средь туч ни единого просвета. Море бесится бурливо, закипает, поднимает вой, хлещет на пустынный скалистый берег и разливается грохочущим прибоем в своем шумной беге.
Ещё есть рыбка. Рыбка не простая, а золотая. Это если в супермаркете ценник посмотреть. А так-то она серебряная, точнее, серебристая. Потому что это лосось - кижуч. Свеженький, только что из моря-окияна. И рыбке, если так уж прямо говорить, совсем худо. Концы она отдает, можно сказать. Прижали её, дальше некуда. Помирает рыбка-то! Лежит на берегу у рыбака в лапах, раскрывает жабры, глаза уже совершенно отчаянные. Совсем уж придавил беднягу лосося-кижуча тихоокеанский орлан, сжав что есть силы ярко-желтой лапой с 10-сантиметровыми черными когтями.
Это и есть наш рыбак. На скалистом берегу вместо дядьки-черномора и витязей в горящей как жар чешуе, стоит огромная хищная птица с оранжевым клювом и стильным нарядом: хвост, «штаны» на желтых лапах, и плечи — белые-белые, а остальная окраска темно-коричневая, как дорогой швейцарский шоколад. Вот такой у нас тут брендовый образ рыбака.
Вот идет он к синему морю,
Видит, на море черная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют.
Сюжет этой картины демонстрирует ситуацию диалога старика, старухи и Золотой рыбки–Морской царицы. Тот момент, когда наши Пушкинские пенсионеры совсем уже потеряли берега этого самого синего моря в стремлении использовать свалившиеся на них возможности социального лифтинга. Ну, надо все-таки по средствам как-то жить, ограничивать свои потребности. Такую-то уж ипотеку с нашими пенсиями не потянуть, чтоб дворец на берегу синего моря отгрохать, да еще и с прислугой. Это уж чересчур. Ну построит она вам его, а как содержать, как ЖКХ оплачивать?
Нет, ну правда, жили себе спокойно, нормально же всё было. Стирала самозанятая старуха в своем корыте растресканном стариковские подштанники да портянки, старик на берегу босиком ходил со своим неводом, сети драные чинил, которым лет уж как ему самому. В общем, материальная база там у них давно не обновлялась. Вкалывал как индивидуальный предприниматель последние 30 лет небывалого расцвета и возрождения, вставал с колен вместе со всей той далекой, но дикой страной. Чего, спрашивается, людям не хватало-то?
И тут с запада, не иначе, заявилась рыбка-искусительница. А откуда еще така красавица могла залететь? В наших пределах таких отродясь не видывали. Повертела своим хвостом перед стариком, как Барби белобрысая, длинноногая, вот у него и взыграло ретивое, как у царя Гвидона, захотелось ему… да и сам не знает уже чего ему там захотелось. Да и бабку свою искусил – рыбку я, мол, поймал, глянь, какую. У старухи глаза-то и разгорись от небывалых перспектив удовлетворения запросов образованного потребителя.
И вот рыбка. А вот така ли уж она вся из себя благородна, да и бескорыстна? А не является ли она агентом влияния недружественных партнеров? Тлетворное действие чуждых нам ценностей не так уж и просто распознать. Если она такая могучая, да всесильная, буквально чудеса творит, почему она вдруг попалась в дырявый невод низкоквалифицированного социального аутсайдера? Вот рассудите, почему вдруг рыбка попадает в невод? Она что, дура полная? Стари-и-к! Один старый немощный рыбачок с каким-то древним, допотопным промысловым орудием лова — дырявым неводом? Странно… Очень странно. Похоже на попытку внедрения иностранного агента.
И тогда, какая тут, собственно, благодарность? Ну отпустил и отпустил, на какую уху она ему сдалась, спрашивается – ни кожи, ни рожи у этой золотой рыбки, даром что хвост. Если ты Владычица морская, то какое тебе дело до того, что на этой суше происходит — да хоть папой римским старуха захотела стать. Кстати, как и есть в оригинале сказки у братьев Гримм — тебе то что? Чего ты сердишься то?
И во что еще не понятно. А почему эта ваша рыбка так легко соглашается на все причуды старухи? Почему не остановилась уже на втором пункте этого амбициозного социального запроса — об элитной жилплощади? Ну и хватит кажется — пентхаус за спасение-то? Они за всю жизнь такого, не то, что не заработали бы, да и не видывали на своем бреге морском, скалистом да пустынном. Осчастливила, нечего сказать, как президент на прямой линии. И раз ты такая умная, почему сразу не окоротила, не образумила, зачем удовлетворяла все дурацкие причуды старухи? Специально, чтобы искусить бедного старика.
И отчего, собственно, все больше и больше волнуется море-океан? Ведь рыбка, вся такая бескорыстная, вся такая эмпатичная, исправно исполняет всё более и более взбалмошные желания глубинного народа?
Море — природная сила, никому неподвластная, даже сказочной золотой рыбке. Стихия намекает людям на то, что они зарываются в своей мании величия. Лукавая рыбка намеренно затягивает их в грех гордости, тщеславия и зависти, все больше и дальше предлагая им никчемные земные блага, обольщая и затуманивая им разум искушением сверхпотребительства. Но простой народ не может устоять перед призраком богатства. И инфантильный старик оказывается не способен проявить силу воли и противостоять искушению своей жены, одурманенной культом консюмеризма.
Это извечная история о потерянном рае.
Рыбка — образ змея–искусителя.
Старик рыбак и его старуха — образ Адама и Евы, которых на счет раз развел лукавый, на этот раз в образе рыбки. Повелись люди на предложение стать как Боги. В оригинале сказки братьев Гримм, по мотивам которой Александр Сергеевич написал свою версию, последняя воля старухи — стать Господом Богом.
И что в итоге? Адам сидит у разбитого корыта – изгнанный из рая, оплакивая и принимая свою жестокую горькую судьбу.
А мораль такова: надо смолоду ходить по естественнонаучным музеям, повышать свой культурный и образовательный уровень. И не для того, чтобы становится просвещенным потребителем, а для равития критического мышления и умения выстроить правильные отношения с окружающим миром, в том числе и со своими близкими.
Во чего нагородил, вот чего надумал, на картину Василия Ватагина с белоплечим орланом и лососем-кижучем глядючи…
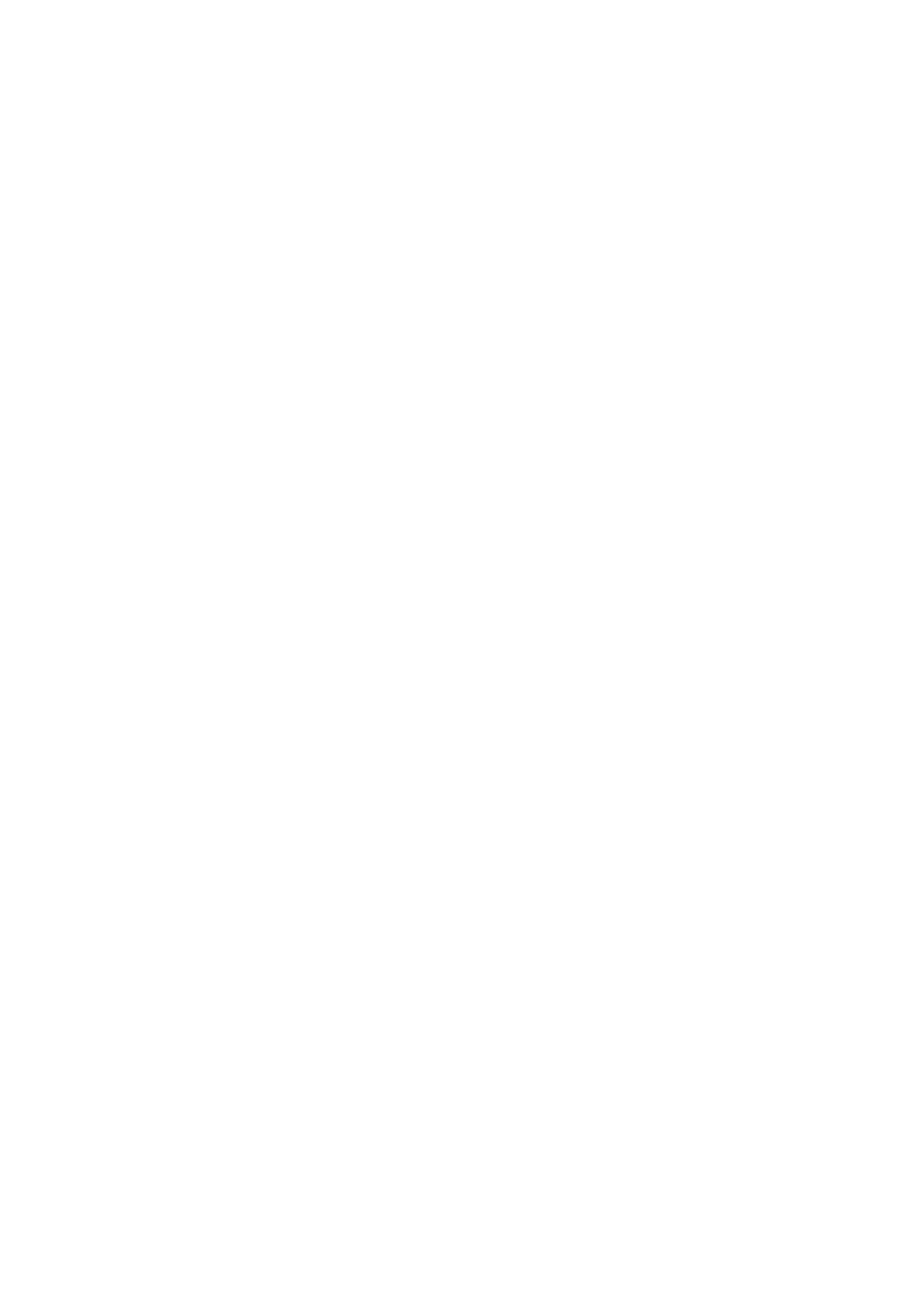
Как засмотрится мне нынче,
Как задышится?
Воздух крут перед грозой,
Крут да вязок.
Что споется мне сегодня,
Что услышится?
Птицы вещие поют – да все из сказок.
Словно семь заветных струн
Зазвенели в свой черед –
Это птица Гамаюн
Надежду подает!
В.С. Высоцкий, «Золотые купола».
И Ада́му рече́: я́ко послу́шалъ еси́ гла́са жены́ твоея́ и я́лъ еси́ от дре́ва, его́же заповѣ́дахъ тебѣ́ сего́ еди́наго не я́сти, от него́ я́лъ еси́: проклята́ земля́ въ дѣ́лѣхъ твои́хъ, въ печа́лехъ снѣ́си ту́ю вся́ дни́ живота́ твоего́: те́рнiя и волчцы́ возрасти́тъ тебѣ́, и снѣ́си траву́ се́лную:
въ по́тѣ лица́ твоего́ снѣ́си хлѣ́бъ тво́й, до́ндеже возврати́шися въ зе́млю, от нея́же взя́тъ еси́: я́ко земля́ еси́, и въ зе́млю отъи́деши.
Книга Бытия, глава 3, стих 17
Несмотря на успехи гуманизма, Просвещения, Возрождения и научно-технического прогресса в целом, сидит в нас тяга к духовному. Или это просто желание вечного комфорта? Имею в виду поиски утраченного рая. Ведь хочется, а? Ну, хочется же? Вечно лежать на диване перед телевизором с чипсами и пивом. Или там, под пальмами тоже неплохо. Опять же гурии… Благодать же ж! Вечное блаженство! А что, скажете, нет? Вы её видите как-то по-другому – жизнь райскую?
Те, кто действительно искал рая на земле, на диванах не лежали. Напротив, это была самая непоседливая часть человечества. Вперед, пусть наши паруса наполнит не то пассат, не то муссон, не то бакштаг. Географы еще даже не придумали названия этим веселым непокорным ветрам, а пассионарная часть человечества уже бороздила опасные воды открытого океана. Вперед, только вперед, к неисследованным берегам неизведанных морей, к диким островам и коварным своей красотой коралловым рифам. Рай сам себя не откроет, райское блаженство само себя не найдет, райские птицы сами себе надежду на вечную жизнь не подадут.
Возможно, тропические плоды, цветы и птицы Папуа-Новой Гвинеи действительно показались первооткрывателям раем на земле. До тех пор, пока они не столкнулись с дикими племенами охотников за человеческими головами. Но в Европу уже потекли вместе с остальными заморскими диковинами странные шкурки странных птиц.
Рай – это все-таки что-то такое абстрактное, далекое во времени и пространстве. Смерть – это же ещё не скоро, это же не со мной… В любом случае, это какая-то отсроченная перспектива, не скоро это всё, ещё пожить надо для себя, тут на земле.
А райские птицы… Что ж… шкурки райских птиц, богато приправленные легендами и мифами о необыкновенных чудесах далёких островов блаженства, ходко шли на рынке тогдашней вычурной моды. В виде искусно сделанных чучел они украшали причудливые шляпки светских красавиц. Но главное, главное – оседали звонкими и реальными, а не мифическими, золотыми дублонами и талерами в карманах предприимчивых торговцев заокеанскими редкостями.
А красавицы в шляпках с птичками… Их, наверное, можно понять и простить – райской романтики – побыть немного Евой – каждой ведь хочется. Хотя бы на шляпках…
* * *
10 сентября 1522 года истрепанная испанская каракка с изношенным рангоутом и грязными парусами медленно поднималась на буксире вверх по течению мутного Гвадалквивира к порту Севильи. Это была «Виктория» – единственное уцелевшее после первого в истории человечества кругосветного путешествия судно экспедиции Фернана Магеллана. Последний из пяти кораблей возвращался в Испанию, благоухая гвоздикой, груз которой полностью окупил затраты на подготовку экспедиции. Но не только пряности составляли ценный груз корабля. В каюте капитана, в резном сундучке испанского дуба, завернутые в желтую пергаментную бумагу, лежали две шкурки необыкновенных, невиданных в Европе птиц – подарок короля одного из островов Индонезии королю испанскому Карлу Пятому. Итальянский летописец экспедиции Антонио Пифагетта так описывал этот трофей:
«Две очень красивые мёртвые птицы, толстые, как обыкновенные голуби, с маленькой головой и длинным клювом, а ноги длиной в ладонь и тонкие, как перышко. У них нет крыльев, но вместо них длинные перья разных цветов, похожие на большие плюмажи. Хвост такой же длинный, как у обыкновенного голубя, а все остальные перья, кроме крыльев, рыжевато-коричневого цвета, и они никогда не летают, кроме как при ветре. Нам сказали, что эти птицы прилетели из земного рая и назывались Болон девата, то есть птицы Бога».
Живых птиц первый европеец смог увидеть в дикой природе только в начале 19-го века, то есть спустя 300 лет! До этого аборигены тщательно охраняли секреты своего первобытного рая и продавали только шкурки райских птиц. Линней опубликовал первое научное описание райской птицы в 1758 г. по коллекционным сборам голландской экспедиции, присвоив ей видовое название apoda, то есть безногая. Хотя вот на картине «Эдемский сад с грехопадением человека», которую написали в 1615 г. Брейгель Старший совместно с Рубенсом, большая райская птица изображена уже вполне натуралистично и с лапами.
А вот картина Василия Ватагина изображает несколько видов райских птиц, но уже не в раю, как у Брейгеля, а в натуре, то есть в их естественной среде обитания.
Но, как ни странно, райские птицы были известны и на Руси. А именно – на гербе сугубо сухопутного Смоленска изображено существо, очень сильно напоминающее большую райскую птицу. И сидит она… на стволе пушки, жерло которой конечно же направлено на запад.… Где Смоленск и где Моллукские острова, тем более, Новая Гвинея? Видимо, нашим предкам было что-то известно про рай. Больше чем даже португальским мореплавателям, потому что первое упоминание такого герба Смоленска относится к 1365 году, то есть за 150 лет до экспедиции Магеллана.
А между тем грабеж райских кущ и островов блаженства продолжался. С 1905 по 1920 г. промышленники добывали и экспортировали на аукционы в Лондоне, Париже и Амстердаме почти 100 000 шкурок ежегодно. То есть за 15 лет добыли больше миллиона птиц. Спрос рождает предложение.
И уже малайские, китайские и австралийские браконьеры – а как еще назвать расхитителей райских богатств – искателей счастья – как они его понимали, охотились на птиц в дебрях горных лесов Новой Гвинеи. Райские птицы конвертировалась в денежные знаки. Кстати, на банкноте Новой Гвинеи она изображена и сейчас, как самый узнаваемый символ страны. Шкурка голубой райской птицы стоила в 1900-м году 20 фунтов стерлингов. В те времена на эти деньги можно было приобрести стадо овец в 20 голов, 1 фунт в неделю – зарплата квалифицированного английского рабочего. На аукционе в Лондоне в 1912 г. одной фирме по пошиву модной одежды продали лот из 28 тысяч шкурок.
***
Всю Землю люди обошли, а рая так и не нашли. А может, плохо искали… Может вовсе и не там он, рай-то. Может, он вовсе и близко. Ближе, чем мы думаем. В сердце человеческом, например?
На Макарийских островах,
Куда не смотрят наши страны,
Куда не входят Смерть и Страх,
И не доходят великаны, —
На Макарийских островах
Живут без горя человеки,
Там в изумрудных берегах
Текут пурпуровые реки.
Там камни ценные цветут,
Там все в цветеньи вечно юном,
Там птицы райские живут,
Волшебный Сирин с Гамаюном.
Константин БАльмонт, «Райские птицы»
«Райские птицы» Ватагина – трИптих. В отличие от сочных «Туканов» – предмете нашей предыдущей попытки осмысления, эта картина выполнена с использованием спокойной зеленовато-серой, даже землистой палитры. И это с одной стороны странно, потому что райские птицы потому и названы райскими, что они яркие, цветастые. По крайней мере, самцы. А с другой стороны, причина использования художником такого блеклого колорита становится понятна, если взглянуть – даже не на живую птицу – это теперь совсем уж редкость, то хотя бы на видео, на котором самец какой-нибудь синезатылочной паротии исполняет свой брачный танец. Посмотрите на это диво дивное, и вы придете в состояние возбуждения пушкинских корабелов, когда они рассказывали царю Гвидону об очередном чуде, явленном этому миру. Чудо это особенное. И перед ним отступает талант художника – в его этюднике просто физически нет красок, которые бы передали эти цвета. Потому что краски – это пигменты, а красоту оперения райских птиц создают не пигменты, а особенное строение их перьев. Но про структурную окраску у разных групп животных – колибри, жуков бронзовок и златок, бабочек морфид, райских птиц и фазанов с павлинами – мы запишем отдельный выпуск подкаста.
Но несмотря на приглушенность цветов, этот триптих Ватагина, пожалуй, еще более декоративен, чем «Туканы». Фон картины лишен каких-либо деталей, позволяющих понять, какое это время суток, время года, каково состояние природы и погоды. Птицы максимально оторваны от среды обитания. Тропический лес заднего плана передан лишь размытыми, не структурированными цветовыми пятнами – унылыми серовато-желтыми, льняными, оливковыми тонами.
Ватагин не был ни на Филлипинах, ни на Моллукском архипелаге, ни на Папуа-Новой Гвинее. В дикой природе он живых райских птиц видеть не мог. Поэтому неудивительно, что их позы на трИптихе практически в точности копируют позы, в которых застыли чучела этих птиц в соседней с картиной витрине. Да и набор видов соответствует тому, который собран в музее: великолепная райская птица, нитчатая чудесная и уоллесова, большая райская птица.
Если у первых путешественников – искателей страны райского счастья – первоначально и была мысль о том, что райские птицы укажут путь в страну вечного блаженства, то очень быстро она испарилась из их голов. А жадные очи наоборот, разгорелись при виде богатств не духовных, а материальных. В шляпных мастерских райских птиц пустили под скальпель таксидермиста. Может быть мы и ищем потерянный рай и райские птицы вызывают у нас какой-то мистический трепет, но в итоге мы возвращаемся к одному и тому же – из рая мы делаем помойку. Почему – вот вопрос. Может быть, с нами что-то не так?
Так закончились поиски человеком рая на земле. Не найдя его, он решил построить Эдемский сад сам. В одной, отдельно взятой стране. Но это совсем другая история.
В небольшом рассказе Ивана Тургенева «Касьян с Красивой МечИ» ёмко изображена космогония нашего мира с точки зрения религиозного сознания. Когда-то человек по имени Касьян жил на далекой реке Красивой МечЕ. Там была свобода и простор. Оттуда его переселили на места неудобные, землей бедные, с чужими, неприветливыми людьми, лишили и свободы и простора. Здесь с ним случайно пересекается барин-охотник. Поводом к неожиданной встрече послужило суеверие кучера барина, который, увидев вдалеке похоронную процессию, погнал телегу, чтобы не повстречаться с покойником на дороге. В результате у телеги лопнула ось и отвалилось колесо. Поиски решения этой проблемы приводят к тому, что автор встречает немного странноватого, как тогда сказали бы, не от мира сего, человека. Касьяна. Касьян смотрит на окружающее широко раскрытыми глазами и видит, что мир вокруг грешен, люди убивают зверей и птиц, проливают кровь, не любят друг друга, притесняют, творят всякое неудобство и несправедливость. При этом они смертны – с покойника, которого везут на кладбище, собственно, и начинается сюжет.
Касьян много дорог исходил по Руси, видел разное. Но где-то, как он считает, в теплых морях, есть острова, «где живёт птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живёт всяк человек в довольстве и справедливости».
Вдруг это случится и мы, в том состоянии души, как описано у Тургенева, достигнем таки нашего потерянного рая… Не организуем ли мы и там мелкий бизнес-кооператив по экспорту шкурок райских птиц? Но вот, правда, вопрос логистики не до конца проработан – куда и кому конечную продукцию поставлять, каким партнёрам?
Да хоть в ад, а куда же ещё? Он нам всего ближе…
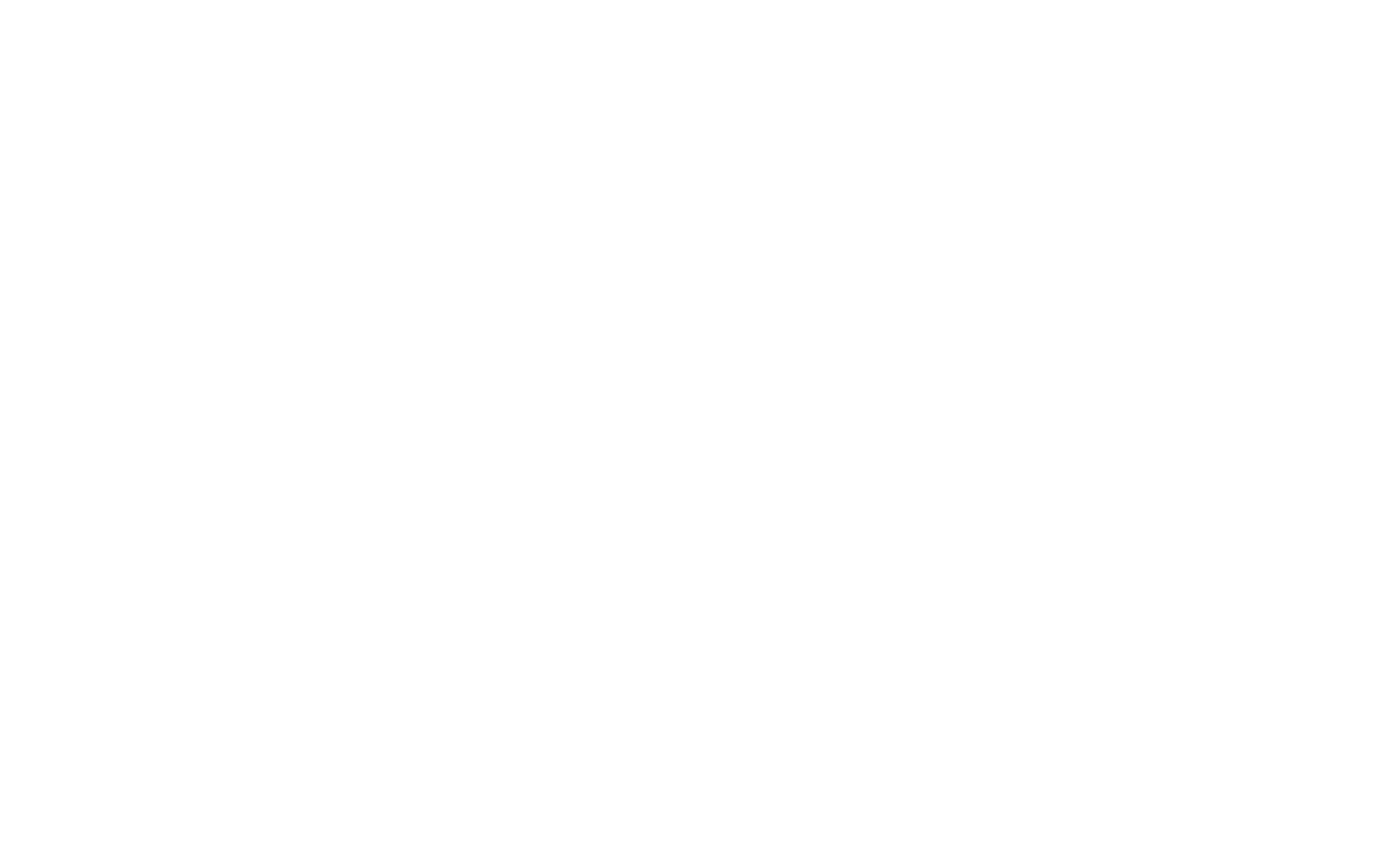
В традиции храмовых росписей западная стена посвящена сцене Страшного Суда. Сюжет этого изображения вроде бы прост по смыслу и сложен по композиции. Как правило, это многофигурные картины с кругами ада, многочисленными и разнообразными грешниками и всяческими формами их изощренного мучения соответствующими персонажами, призванные ужаснуть зрителя и удержать от совершения грехов в жизни земной. А также к тому, чтобы покинуть помещение, в котором он внезапно оказался.))
При чем же тут сайгаки и степь? Мы же хотим выявить метафизический смысл этой фрески! Попробуем…
Степь на фреске Ватагина – это бесплодная земля, иссохшая без животворящей влаги, как душа грешника, тоскующая по росе Божественной благодати. Живая тварь, словно сорвавшееся в паническом бегстве стадо, мечется по этой пустыне, не находя пристанища, пищи и прохлады. Суетна жизнь грешника. Вспоминаются первые строки самого первого псалма Давида – «Не тако, не тако нечестивии, но яко прах от лица земли…». Только прах и пыль поднимается за стадом сайгаков, а сам облик этих животных напоминает образы нечистой силы – рога, копыта, странные, носатые, искаженные морды… Чем не аллегорическая картина Страшного суда?
Кажется, что чувствуешь привкус пыли на губах, песок скрипит на зубах, ступнями ощущаешь, как вибрирует пол фойе, словно вдалеке по мосту идёт груженый товарняк и колёсные пары стучат на стыках рельсов. Куда несетесь? Везде беда… Ведь на дворе эпоха освоения целинных земель, и по призыву партии комсомольская молодёжь Советской страны тысячами валит в североказахстанские степи, чтобы распахать их для нужд социалистической родины.
«Степь чем дальше, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство... было зеленою, девственною пустынею... Ничего в природе не могло быть лучше; вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов... занесенный Бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще... Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог весть в каком дальнем озере. Черт вас возьми, степи, как вы хороши!»
Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба»
Новое поколение преобразователей природы сейчас вплотную займется этим золотым океаном. Колос пшеницы, занесённый Бог знает откуда? Заколосится не один, а миллиард колосьев. Правда, не останется ничего больше, кроме пшеницы: не будет птичьих свистов, не будет цветов, ястребов. Тучи гусей? Не-е-е-т, уже нет. Про сайгаков Николай Васильевич умалчивает, видимо, уже в те времена с ними было не всё так хорошо. А уж сто лет спустя – и подавно. Плоская и бурая, как пригоревший блин на сковородке неумелой хозяйки в первый день масленицы, равнина – вот все, что осталось сайгакам. Да ночные преследования на грузовиках ГАЗ-66 с пьяными строителями коммунизма с ружьями в кузове.
Вот и несется на картине Василия Алексеевича испуганное стадо неизвестно куда, словно русская тройка – только «видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух». Да орёл-могильник спустился и сузил круги над мертвечиной.
Предположительно впечатления для сюжета этого панно Ватагин получил в заповеднике Аскания-Нова в 1927 году. Вот как сам он об этом пишет: «Впечатления от Аскании были новы, сильны и поразительны! Впервые я увидел стада антилоп, бизонов, зебр и страусов, свободно пасущихся в степи. Тогда еще Аскания сохраняла традиции ее основателя Фальцфейна – богатого любителя животных и природы. Он приобрел многие сотни десятин целинной причерноморской земли и организовал уголок Африки на юге России. И никаких практических целей. Все строительство на основе любви к природе».
Никаких практических целей… Каким контрастом звучат эти слова в нашем теперешнем времени, когда даже заповедники нещадно эксплуатируются так называемым экологическим туризмом, вместо эталонных резерватов нетронутой дикой природы становясь кормовой поляной для инвесторов.
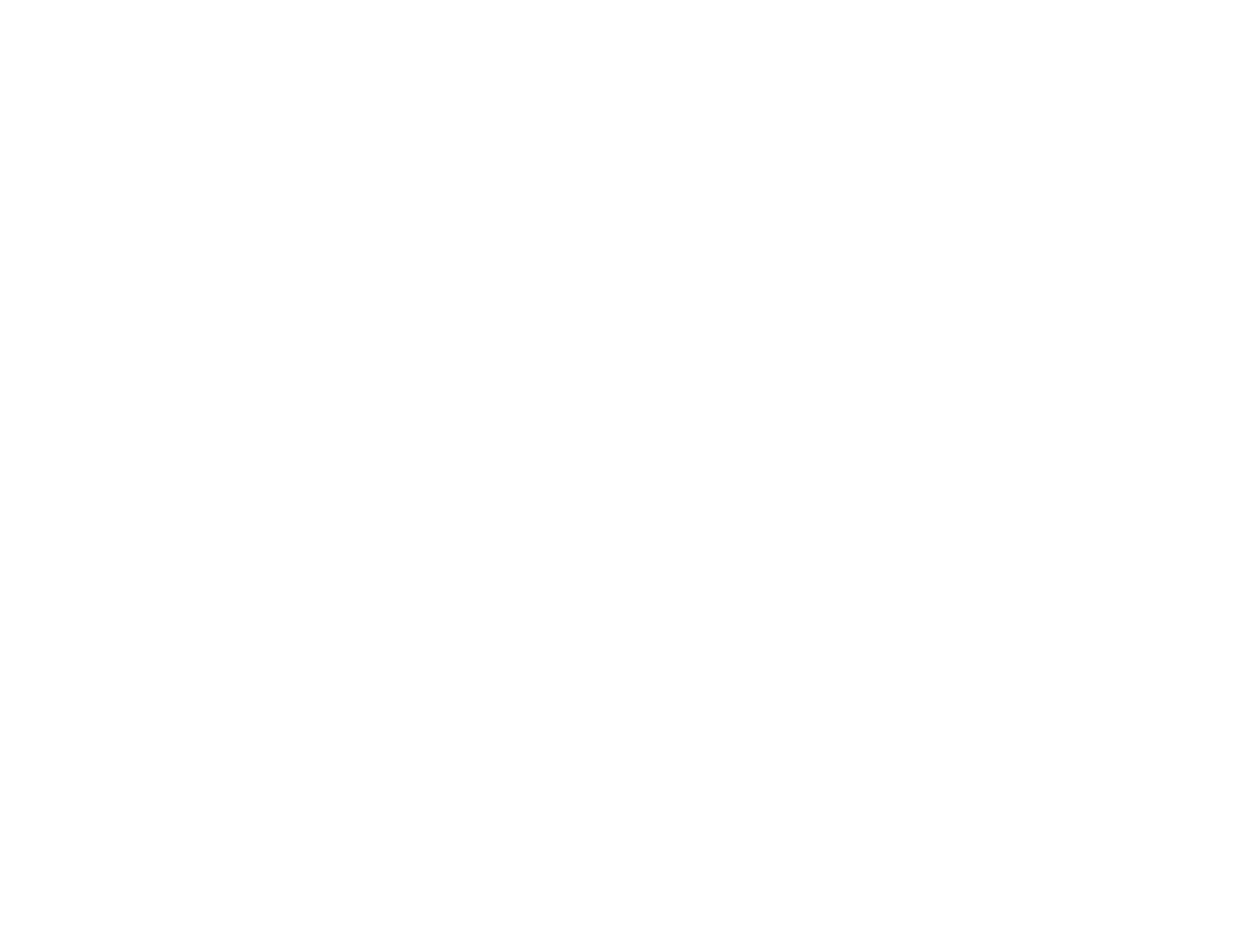
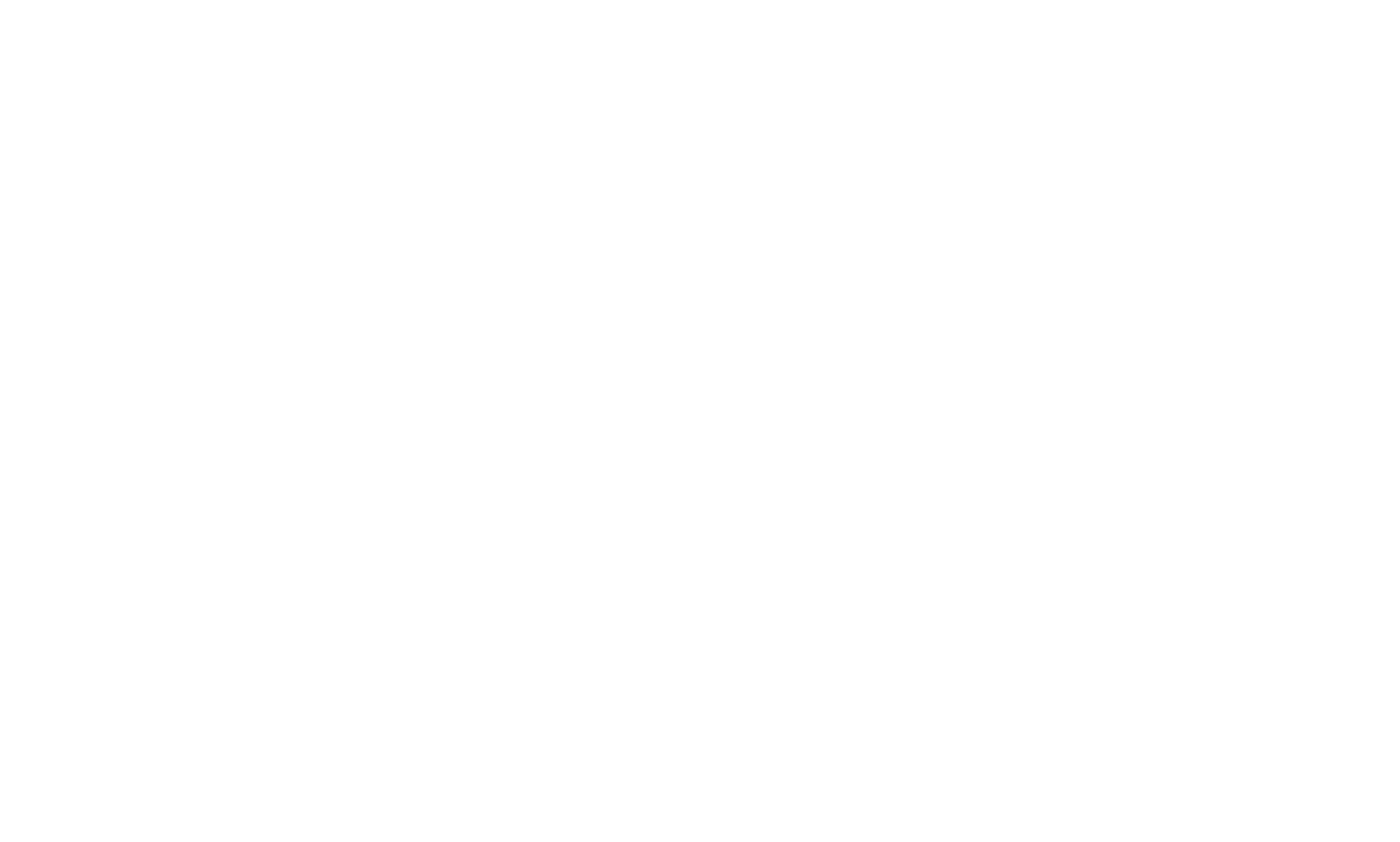
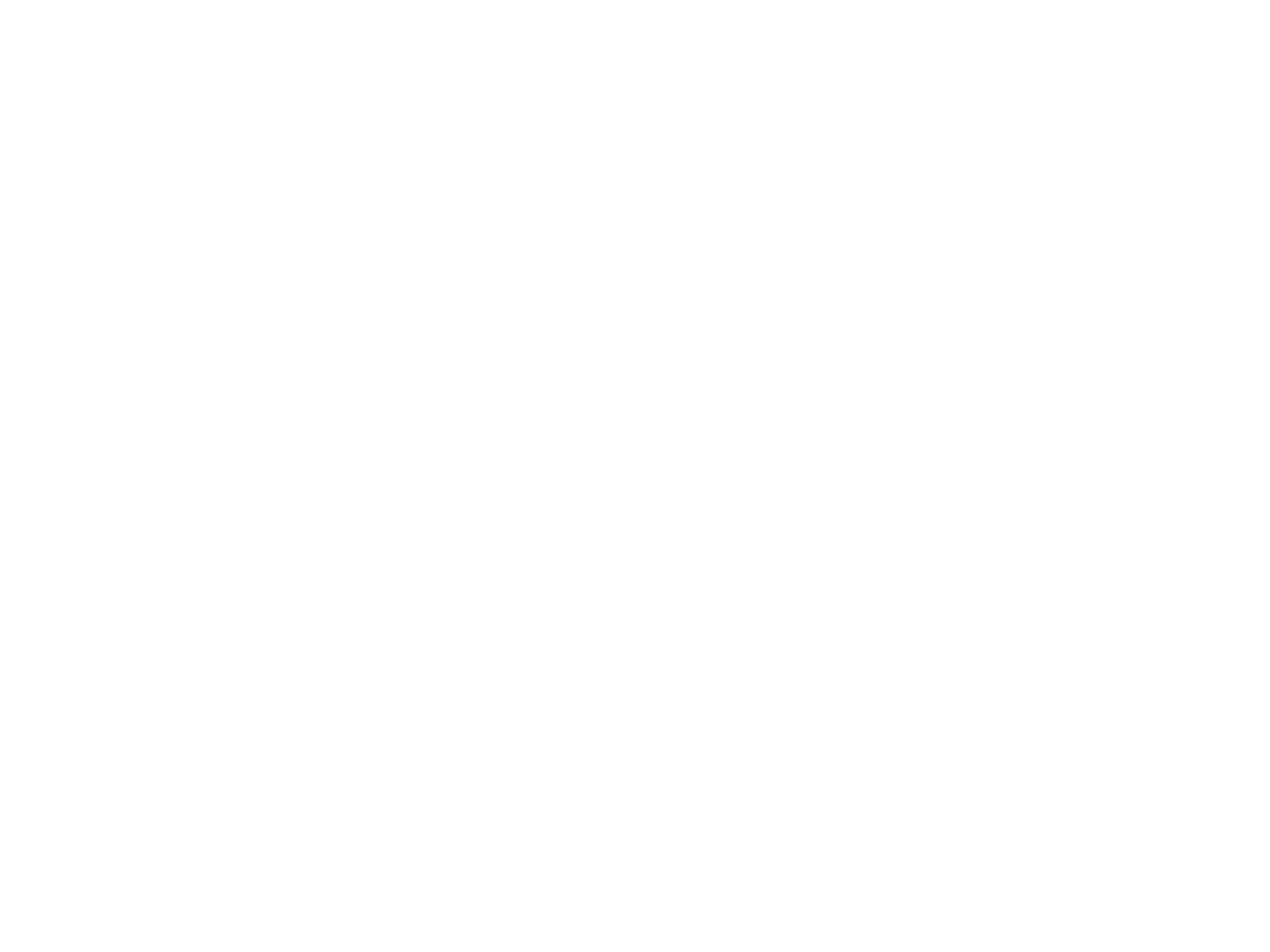
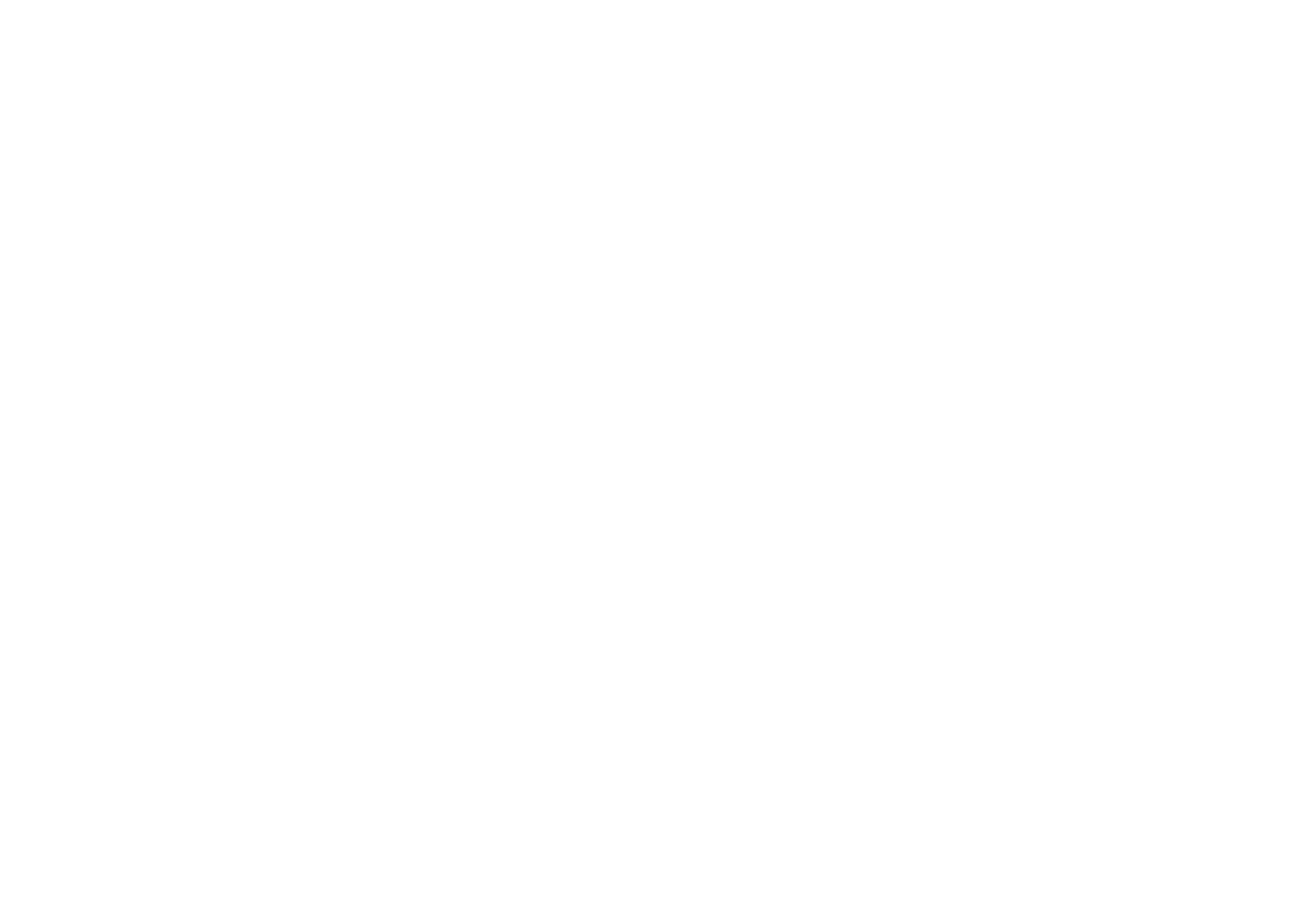

Снежный барс
Тянь-Шань
Да принесут горы мир людям и холмы – правду.
Псалом 71:3
Он красив и строен, несмотря на возраст. Он всегда впереди. Он лидер. Он опытен. На голове огромные закрученные шершавые рога весом под тридцать килограммов. Горы – его дом. Так его и зовут – горный баран или архар. Но на всякого архара найдётся свой снежный барс. Ловкий, незаметный, терпеливый, невидимый ниндзя гор. Невидимый, потому что пепельно-серая окраска растворяется в рисунке сухих камней азиатских горных кряжей. Остался последний прыжок. Архар ничего не подозревает, не видит, не чует барса. Ветер дует в другую сторону и относит запах хищника. Всё предрешено. Завтра восход солнца в этих хребтах встретит новый вожак гарема из 10 самок. Может быть именно из-за них-то и потерял осторожность старый самец, слишком погрузился в раздумья о продолжении рода.
Передний план картины темный, солнце уже давно покинуло этот глубокий распадок жестоких страстей, в котором происходит извечная борьба жизни и смерти – жертв и хищников, победителей и побежденных, хитрости и коварства, боли и страдания.
Ярко освещенные вершины царят над мелкой суетой примитивной формы жизни на своих бесконечных склонах. Горы – высшая форма существования материи.
Горы, как чистое сияние вечного разума, олицетворяют ту высоту, на которую должен подняться человеческий разум, пройдя каменистыми, бесплодными ущельями житейских необузданных страстей. Навсегда оставить их внизу перед последним переходом к горным пикам. Подъём будет труден, но только там, на высотах Света всякая душа живая может напитаться им и сама стать светоносной.
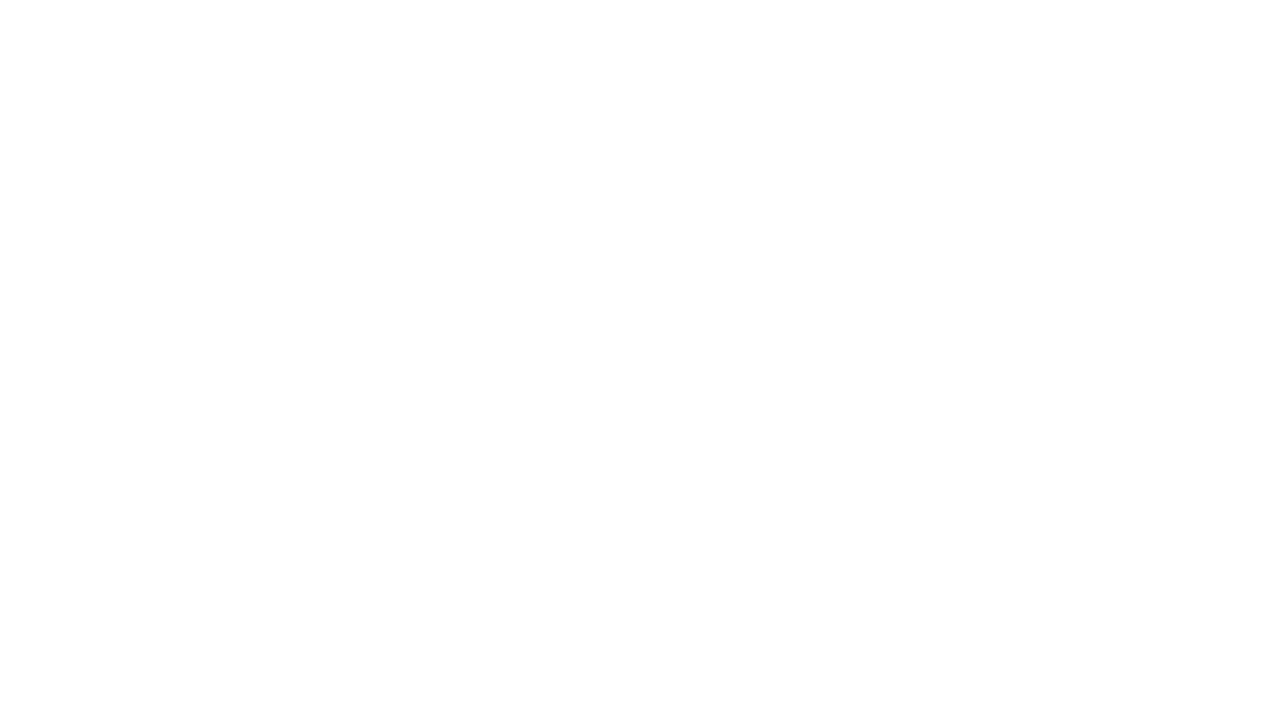
Или вот история любви. На небольшом холме перед бескрайним пустынным пространством африканской саванны – лев и львица. Ветреный пасмурный серенький денёк. Пейзаж уныл, скучен и окрашен в бурые краски пожухлой слоновой травы, стебли которой как бы смешиваются с косматой грязно-бурой гривой старого льва. Приглушенные пастельные тона грозового неба создают настроение меланхолии. Растрёпанная и вся какая-то беспорядочно взерошенная фигура животного с запутавшимися в шкуре соломинками усиливает чувство тревожности. Грустные мысли наводит не только порывистый ветер на картине, но и напряженные позы зверей. Лев безысходно рычит или даже скорее воет куда-то в далеко и надолго. Его еще ладная, мускулистая фигура вытянулась словно вслед за тем, кому он посылает свой вопль. Неладно что-то у них со львицей. Какой-то раскол, раздрай и разлад случился. Может, ему пора уйти, он стал стар и слаб и больше не может охотиться. Хотя, говорят, что в прайдах основную добычу приносят как раз львицы, а не львы. Может, его способность продолжать львиный род подошла к логическому концу. Таков печальный итог. Сколько можно, с другой стороны? И так вся саванна вокруг наполнена его потомками, их глухой и мощный рык доносится до его слуха по ночам. И это приятно. Лев чувствует этот свой внутренний беспорядок, но пока еще держит это в секрете от львицы, его внутренняя тоска по молодости прорывается долгим безысходным и безответным низким зовом в бесконечные пространства африканской саванны, в которой он столько лет был альфа-самцом.
Я бы назвал картину «Прощание с прайдом». Чем не сюжет для полнометражного фильма? А, да, такой уже сняли – «Король лев».
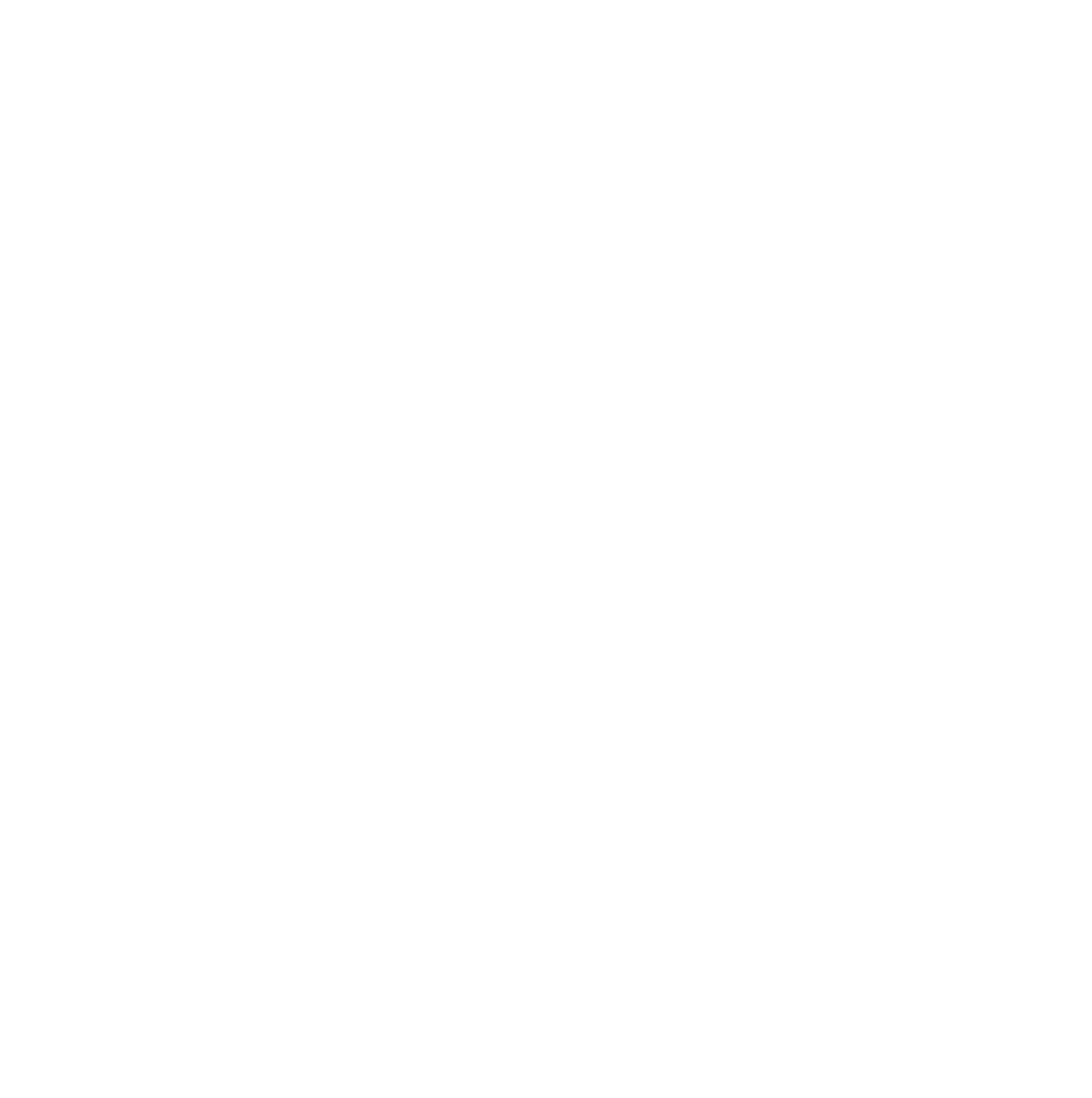
Величавость и напор: маралы
По рогам встречают…
В прозрачных осенних широколиственных лесах Приморья только стук падающего на землю маньчжурского ореха нарушает тишину замершей в ожидании первого снега тайги. В этом таёжном угомоне далеко разносится странный гортанный рев. Самцы марала призывают самок и приглашают соперников померяться силами ради возможности внести вклад в генофонд популяции. Тестостерон зашкаливает, глухие удары далеко-далеко разносятся по бесконечным затихшим хмурым падям. Обитатели уремы прислушиваются, всем интересно, чем закончится схватка. Особенно самкам. В конце концов, им в первую очередь важно, чтобы производитель был в силе, а не молодняк какой-нибудь необученный вышел победителем – ни от тигра не защитить, ни тропу к солонцам в глубоком снегу проложить.
Бьются самцы маралов за право первой ночи, аж треск стоит по дальневосточной тайге.
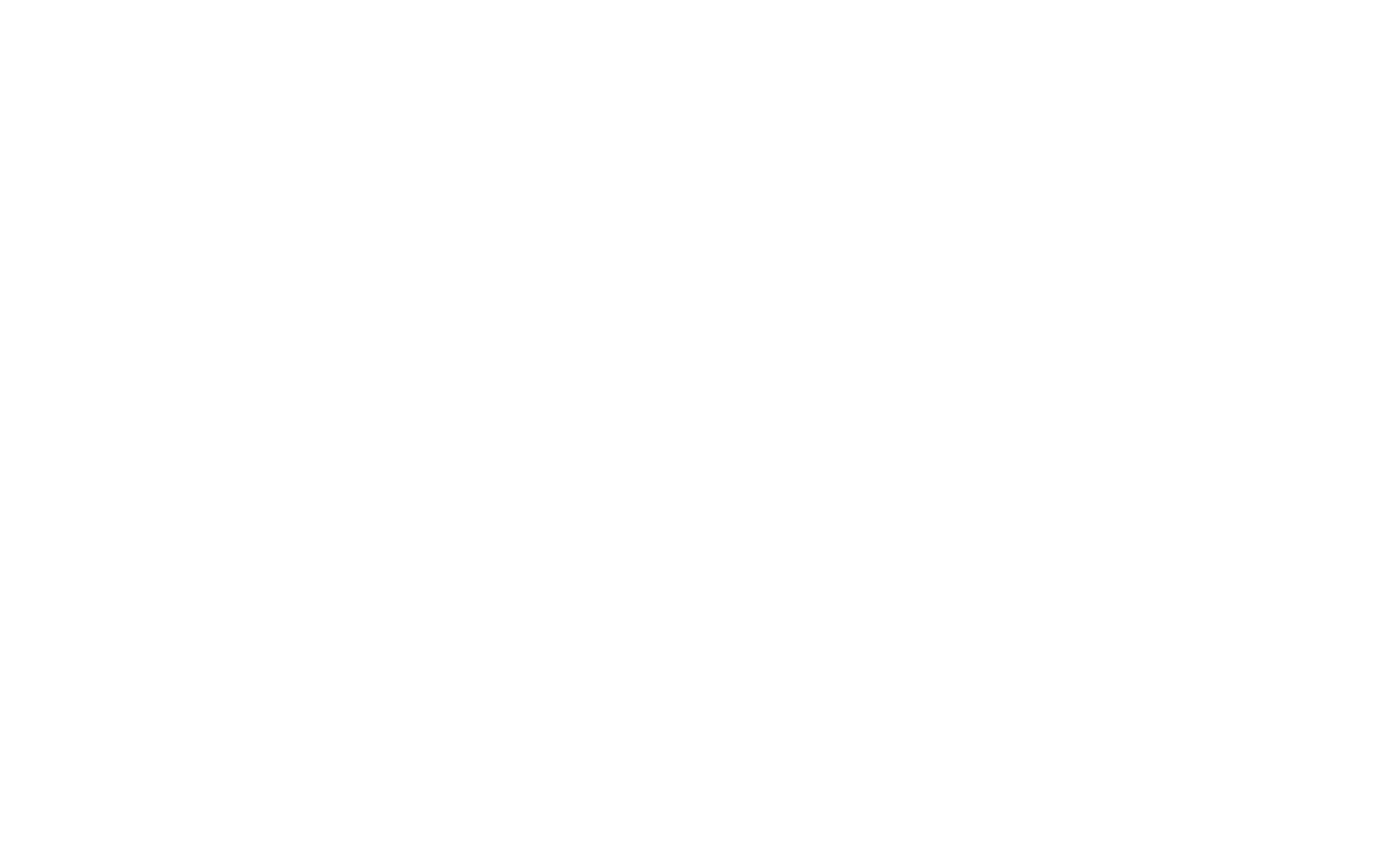
Антилопы ориксы
Есть саблезубые тигры, а есть саблерогие антилопы. Есть овцебыки, а есть сернобыки. Вот если взять сернобыка и саблерогую антилопу, то получится – орикс, потому что это одно и тоже, это всё названия одного и того же животного.
Жить можно и на минималке. В смысле, условий проживания, ЖКХ там, продуктовая корзина, социальные пособия, пенсия, ОМС... Всего этого в бесплодных полупустынях юга Африки нет. А ориксы там живут, и ничего…
Но сейчас что-то не так, что-то случилось, какая-то беда, не то несчастье. Все смешалось в холмистой кустарниковой саванне. То ли какой-то переполох в прайде львов, или бегемот наступил на хвост крокодилу, или в стаде слонов у самца внезапно случился муст. Слониха объявила, что не может жить с ним в одном национальном парке. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими слонами, и всеми остальными обитателями саванны. Слониха со слонятами, как потерянные не выходили из густого леса, слон третий день терроризировал ближайшие окрестности. Бегемоты таки окончательно поссорились с крокодилами и ушли в другое болото. Антилопы гну как с цепи сорвались и набычившись носились, брыкаясь направо и налево. Даже самые крупные антилопы канны, забыв степенность и свойственную им солидность, запрокинув головы бегали по холмам, мотая своими шейными складками. Что ж говорить о грациозных сильных ориксах, пара которых, словно обезумев и запрокинув свои огромные острые рога за спину, мчалась, вытянувшись над сухой травой.
Муст очень заразительное состояние, возможно он передается воздушно-капельным путем… Иначе не очень понятно, почему именно эта картина единственная в галерее образов животных Ватагина наделена такой необыкновенной стремительной динамикой.
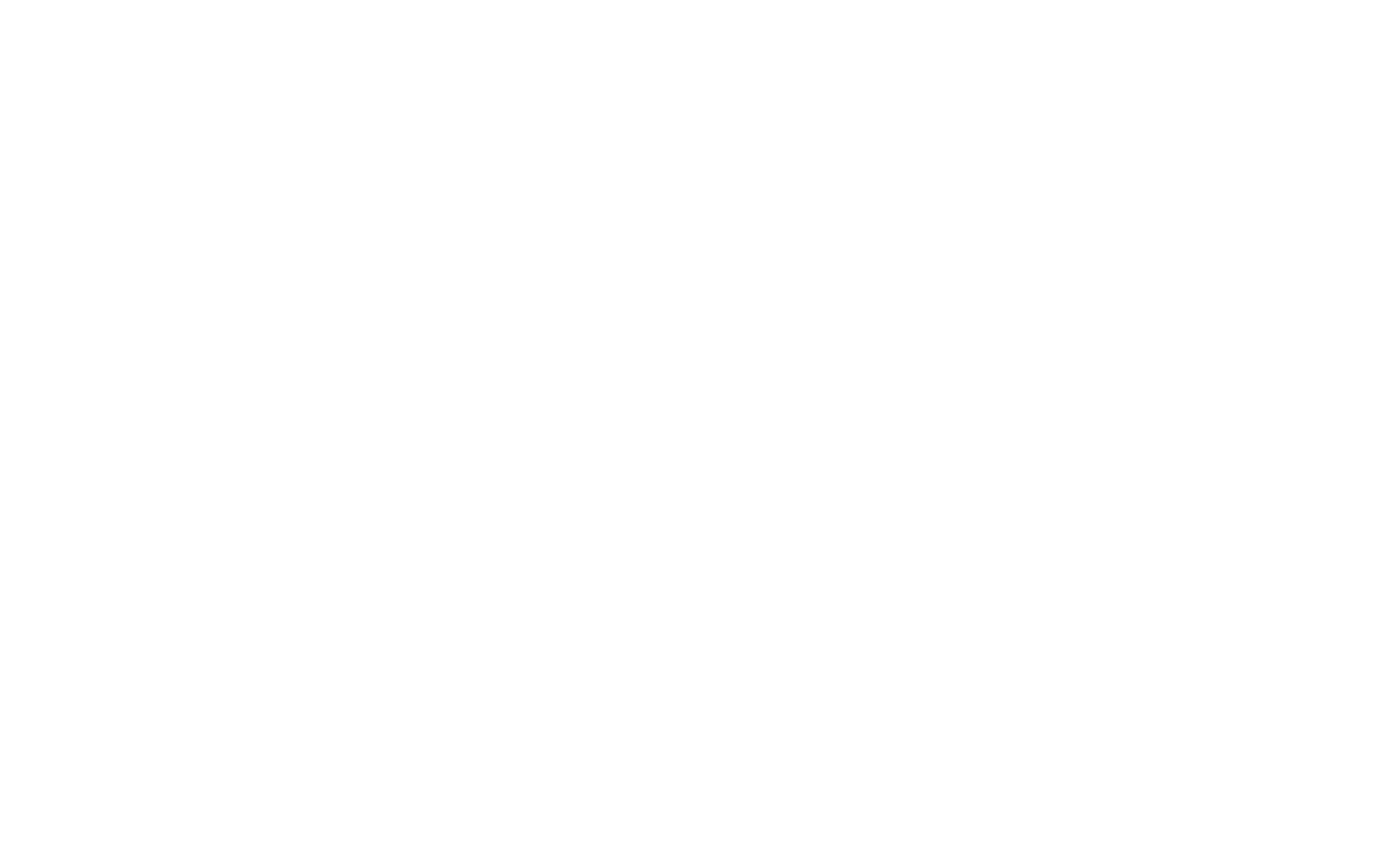
Не так страшен слон, как его муст
Слон – он как дерево. Большое, древнее, одиноко стоящее на лесной поляне дерево, к которому ты учтиво подходишь, уже издалека склонив благоговейно голову. С уважением к его возрасту протягиваешь осторожно руку, прикасаешься к твёрдой растрескавшейся коре, скользишь пальцами по жилам-трещинам, охватываешь, как женский стан. Сначала осторожно, потом уверенней обнимаешь, соприкасаешься ладонями, переплетаешь пальцы… Потом уже только поднимаешь голову, встречаешься глазами. На тебя смотрят. Большой, круглый карий слоновий глаз в обрамлении на удивление длинных, жестких черных ресниц.
Повезло, если это не самец слона во время муста. Впрочем, во время муста к слону так просто не подойдешь, даже изображая знаки уважения. Во время муста от слона надо бежать как можно быстрее и дальше. Или залезть на то самое большое дерево, к которому вы поначалу так благоговейно приближались. Вот быстренько отбросить это благоговение и быстрей, быстрей, прямо в ботинках, по коре, по ветвям наверх. Главное, дерево должно быть достаточно большим, чтобы слон его не повалил. А такое во время муста регулярно случается.
Что ж это такое – слоновий муст? Попросту говоря это состояние, в котором слон пребывает в «охоте», иначе говоря, ищет самку. Это состояние полного аффекта: «держите меня семеро!» словно кричит весь вид этого обезумевшего агрессивного слона. С нами тоже так бывает, когда мы начинаем на других людей кидаться. А почему мы впадаем в такое состояние – да кто ж его знает. То ли начальник дурак, то ли девушка ушла…
Если разбираться с мустом с биологической точки зрения, то этот период характеризуется очень высоким уровнем тестостерона и, как следствие, агрессивным поведением. В этом состоянии слоны могут нападать не только на других слонов или деревья, но и на человека, совершенно независимо от его принадлежности к своим или чужим. В древности хозяева боевых слонов для повышения их эффективности в бою пытались искусственно вызвать у них муст, используя наркотические вещества, алкоголь, громкие звуки и музыкальные инструменты. Применение таких способов описано в Библии:
Тогда царь, исполненный сильного гнева и неизменный в своей ненависти, призвал Ермона, заведовавшего слонами, и приказал на следующий день всех слонов, числом пятьсот, накормить ладаном в возможно больших приемах и вдоволь напоить цельным вином и, когда они рассвирепеют от данного им в изобилии питья, вывести их на Иудеев, обречённых встретить смерть.
— 3-я Книга Маккавеев, 5.
На картине Ватагина у слона, бегущего навстречу зрителю, уши распущены, взгляд настороженный и даже блуждающий; заметно, что мышцы тела напряжены; кажется, что слышно шумное дыхание; похоже на то, что животное готово к деструктивному поведению. Иногда муст продолжается целый месяц и это тяжелое время для всех окружающих.
Во время муста слоны часто выделяют вязкую жидкость, напоминающую смолу, из височных желёз по бокам головы. Эта густая жидкость со специфическим запахом называется темпорином и содержит белки, жиры, фенол, раздражающий слизистую крезол и ароматические вещества группы терпенов. Организм слонов в этот период вырабатывает также повышенные концентрации пахучих кетонов и альдегидов, которые содержатся в моче животных.
Никто точно не знает причин слоновьего муста. Может быть агрессия слона – это реакция на темпорин, который стекает из желез в рот и раздражает слизистые оболочки. А может быть причина в том, что височные желёзы, набухая, давят на глаза и вызывают острую боль, похожую на зубную. Изнывая от боли, слоны роют землю бивнями и крушат всё на своём пути, не разбирая кто перед ними – их старый погонщик, жираф или дерево.
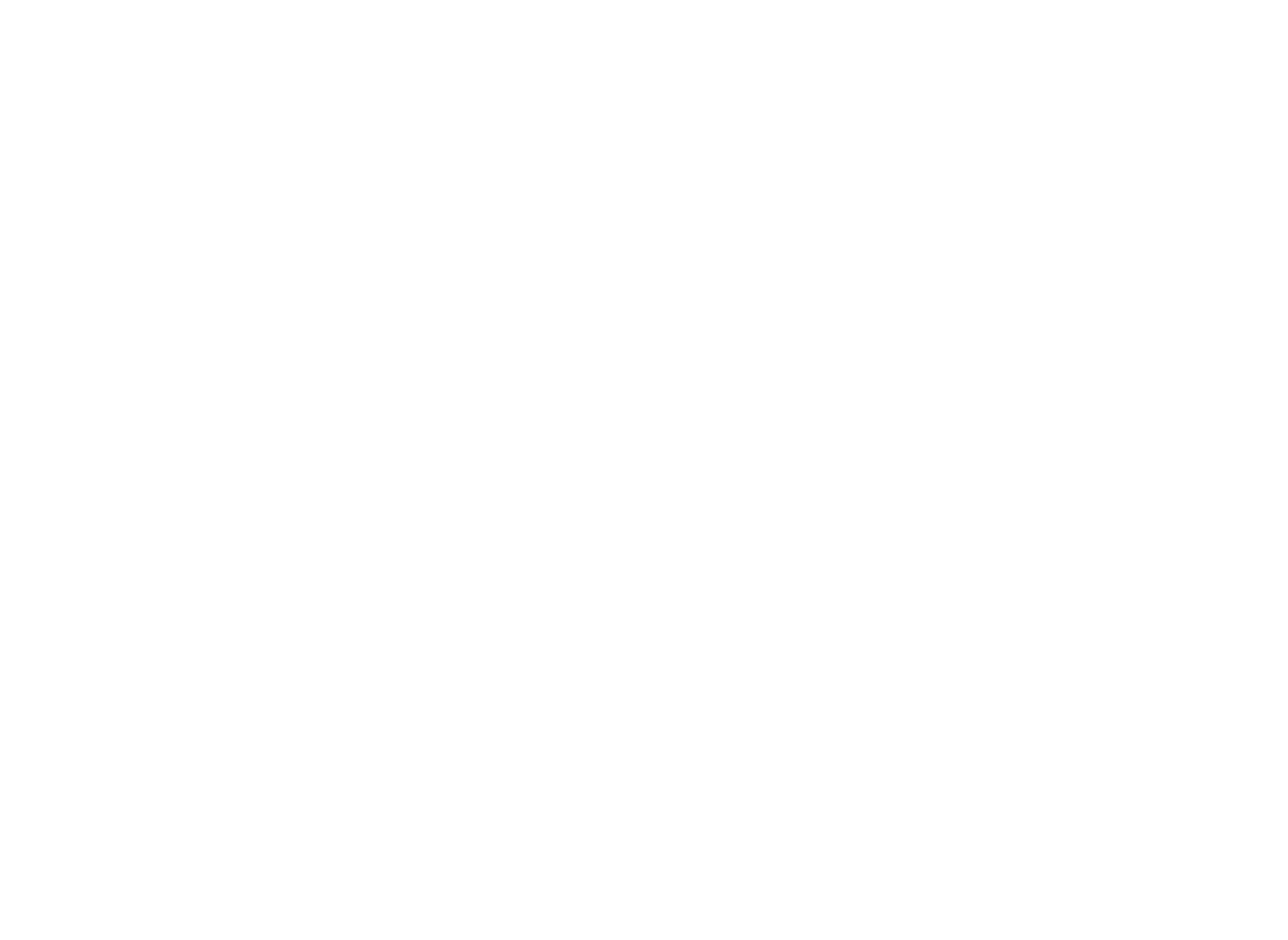
Овцебык
Далекий остров в Восточно-сибирском море. Остров Умкилир, что по чукотски означает «остров белых медведей». Умка – это белый медведь, значит, любимый мультик детства… А на картах он называется островом Врангеля – знаменитого полярного исследователя…
Картина выполнена в темных тонах, в которых любил писать Василий Алексеевич Ватагин. Белых медведей в кадре нет. Пока. Но главный герой сюжета не менее мохнат, монументален, угрюм и молчалив. И готов постоять за себя. Три взрослых самца в напряженных позах смотрят прямо вам в глаза, в упор. Взгляд неприязненный, глазки злые. Кого они там видят, на вашем месте? Полярные волки обложили стадо с детенышами со всех сторон? Белый медведь подошел слишком близко? Или… ты, человек с ружьем? На Севере кругом опасности. Вон какой суровый ландшафт на заднем плане – кочковатая каменистая тундра, с клочками бурой растительности, лишь накипные лишайники покрывают тонкой коркой крупные плиты серого базальта. Угрюмые заснеженные горы, зябко скрывающиеся в полосах вечно изменчивого белесого тумана. Глубокий пролив Лонга с голубыми льдами на темной воде, отколовшимися от ледника. Где-то шумят внутри его массивного грязно-белого тела невидимые водопады. Движение земли и воды находится здесь в вечном антагонизме, здесь все время что-то совершается или что-то собирается происходить: бесконечная игра света и тени, череда туманов и солнечных пятен, перемещения панциря ледника и льдин, плавающих по заливу. Картина в стиле Рокуэла Кента. Только человека здесь нет. Ему тут не место.
Стоит только на минуту расслабиться, и если не хищники, так неласковая среда обитания быстро с тобой разделается. Слабый тут не продержится долго. Но вот к испытанию Крайним Севером эти животные как раз полностью готовы. Овцебыки – суровые выживальщики Арктики. Но есть секрет – надо сплотиться. Стадо – вот твоя единственная возможность выжить, в одиночку у тебя шансов нет. Держись коллектива, держись своей семьи. Социум, даже если вокруг тебя сплошь овцебыки, это сила.
Но не только это. Когда смотришь на ландшафт, который не ограничивает твое пространство ближайшими пятьюдесятью метрами, а на Севере это практически всякий ландшафт, понимаешь и проникаешься осознанием необъяснимой, метафизической связи сложного бытия всех вещей, живущих вокруг. Начинаешь понимать, что ты встроен в некий всемирный общий ритм, общий отсчет времени. В таких местах происходит ослабление интереса к житейским мелочам и обстоятельствам, вместо познания мысль постепенно растворяется в созерцании. Вмешиваться в этот ритм не стоит, нужно просто в него влиться, приобщиться.
Созерцает ли овцебык суровые ландшафты Севера? Я не знаю. Ох, и тяжеленный же у них череп с рогами. Килограмм 20 весит, есть у нас в коллекции пара штук из зоопарка. Выглядит он странно. Рога занимают большую часть черепа, они плотно облегают лобные кости черепа, словно женская прическа бубикопф по моде 20-х годов, короткая, озорная, с разведенными в стороны острыми рожками. И даже не совсем понятно, откуда они собственно, растут. Это какой-то средневековый бацинет тяжелой пехоты, а не череп. Брутальный высокоширотный парень овцебык – один из последних осколков ледникового периода, мамонтовой фауны.
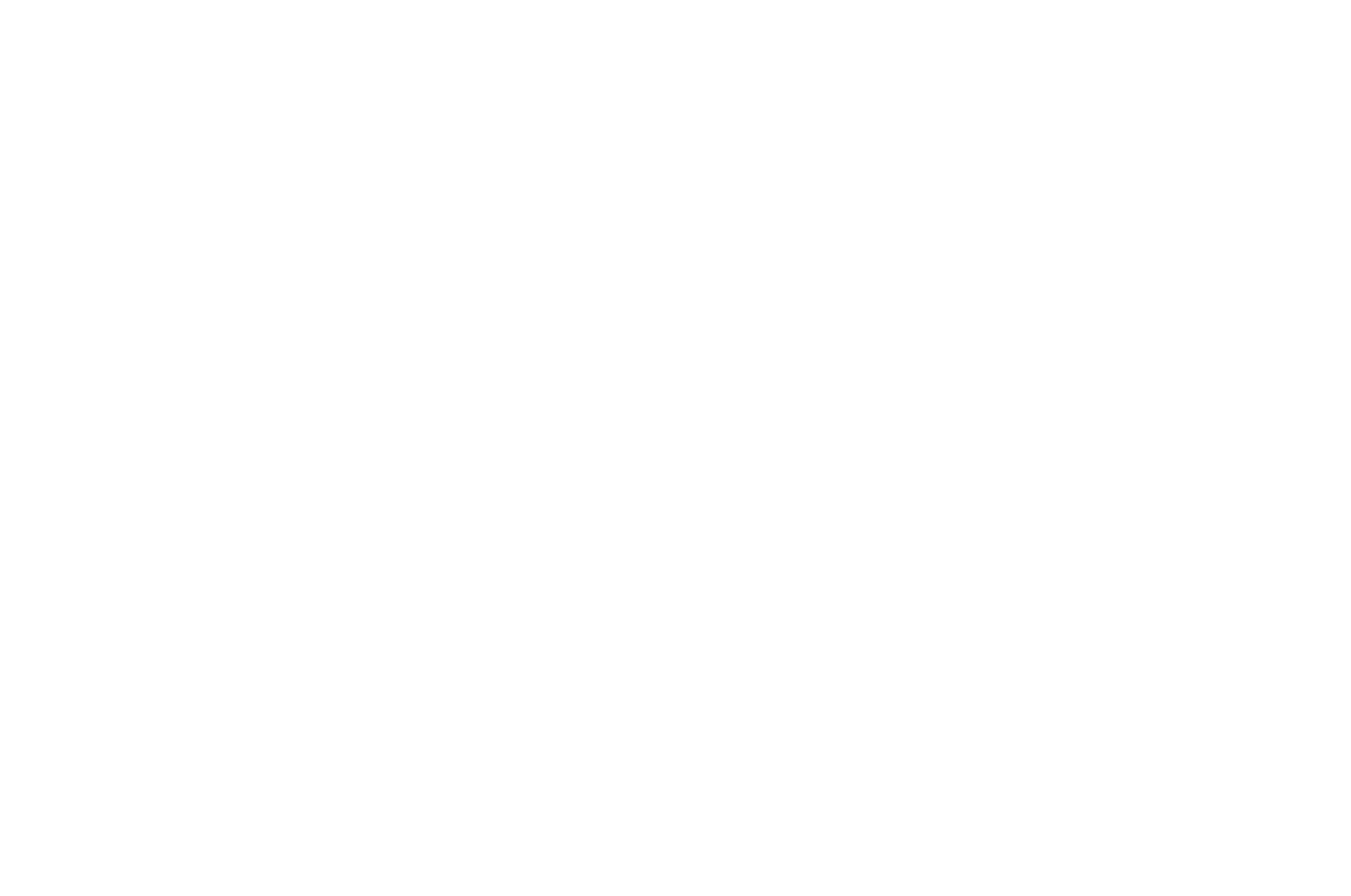
Белое море
Море Белое, словно чаша вина, на ладони моей качается.
Я все думаю об одном, об одном, словно берег надежды покинувши.
Море Белое, словно чашу с вином, пью во имя твое, запрокинувши.
Неизменное среди многих морей, как расстаться с тобой, не отчаяться?
Море Белое на ладони моей, как баркас уходящий, качается.
Б. Окуджава,
адаптация текста – ББС
Стоит ли писать картину, если это произвольно, случайно выхваченный фрагмент окружающей действительности? Хотя, если осмотреться, то действительность нас действительно окружила, фрагментировала на фрагменты, атомизировала на атомы и поместила в строгие функциональные границы, невыносимо тесные рамки нашей собственной жизни. Разве вокруг степь, что будоражит голову благоуханием сухих терпких трав? Или задумчивые, влажные, пропитанные туманами буковые горные леса Кавказа? Или плоский берег Финского залива с острым запахом гнилых водорослей? Или валуны Белого моря, в белых шишечках балянусов, закрывших створки на время отлива? Признайтесь, ведь хотели бы этого – пронзительной степи, бескрайнего моря, домашнего залива, лохматых гор, а лучше всего — беломорских гранитных валунов, а не вот это всё…
Но сейчас мы в музее, и здесь картина Ватагина, на которой – Белое море… Посмотрим, в какие сюжетные рамки поместил её автор, что и как выхватил взглядом и мыслью из беломорских белых далей.
«Стань у серого камня, когда застрекочет дрозд и взгляни на замочную скважину, когда на нее упадет последний луч Дня Дурина».
Джон Толкин, “Хоббит или Туда и обратно”
Эта картина – словно потайная дверь в Эребор – Одинокую гору. Дверь непростая. Она открывается в своё, нужное время. Открывается не каждому, а только тем, кому это, страсть, как необходимо. Чтобы обнаружить замочную скважину, придётся расшифровать лунные руны, написанные серебряным пером.
Дверь открывается в День Дурина, в завершающий день ещё веселой беззаботной осени и в канун одинокой зимы, когда последний луч последнего дня выбивается из-за пелены нависших над сопками лохматых туч. А еще зачем-то нужна птица, которая сидит на сером камне.
На картине, которая перед нами, много птиц и много серых камней. Но как найти замаскированную дверь? Попробуем прочитать «лунные руны», которые художник – сюжетом картины, расстановкой фигур, их взаимным движением и расположением, гармонией цветовых пятен – оставил нам разгадывать в тишине музейных залов, на границе разных миров.
Гномы Эребора долго искали вход внутрь горы, пробовали и так и сяк, били кирками и кувалдами, толкали, возились, пыхтели. Дверь не поддавалась. И только хоббит сидел и думал. Хоббит думал гору, как мы думаем картину… А может быть он думал вовсе не о горе, а о той стране, что лежала в голубой дали – о рае на земле – о Шире.
Щелк! Черная птица, сидевшая на камне, схватила улитку и ударила ею об камень. Щелк! Щелк!
На нашей музейной картине тоже есть чёрная птица. Она в самом центре, в геометрическом центре картины. И у птицы длинный яркий клюв, как и у дрозда в «Хоббите», только не ярко-желтый, а ярко-красный, как и её длинные ноги. Это – беломорский кулик-сорока, который тоже питается улитками или моллюсками по научному, разбивая их домики о гранитные валуны, чтобы добраться до сочной мякоти, как гномы добрались до сердца горы – Аркенстона. Но птица здесь не одна. Черно-белых птиц с красными клювами на картине три. И раз уж мы разгадываем магию линий лунных рун беломорья, то внезапно обнаружим внутреннюю симметрию изображения – словно просвет в облаках, сквозь которые прорывается последний луч осени.
На этой большой, в спокойных серых тонах, картине звучит сложная геометрическая симфония разных фигур. Картина в картине, фигура в фигуре. Внутрь деревянной рамы помещен еще один портал, который образуют четыре огромные валуна. Они лежат на диагоналях картины. В точке их пересечения – в самом центре картины – расположен пятый, краеугольный, камень. А на нём сидит – птица. Та самая, которая как и дрозд в «Хоббите» может “щёлк-щёлк” улиток.
И вот здесь задачка по геометрии, для любителей разгадывать такие ребусы. Три черно-белых кулика с красными носами помещены в вершины одного опрокинутого треугольника, вписанного во внутренний, каменный портал картины. Второй треугольник, основание которого лежит на нижнем ряду валунов, маркируют тоже птицы с яркими акцентными пятнами красных клювов. Но это уже не кулики, а полярные крачки. В вершине этого треугольника – самые заметные и крикливые существа Белого моря – серебристые чайки. Венчают своими плотными фигурами центральный валун.
Два треугольника, три триады, такая внутренняя гармония: триада камней, триада красного цвета, такого редкого для Севера, триада птиц, без которых невозможно себе представить Белое море.
Забавлялся так художник, задавая зрителям задачки на композицию для первого курса художественного училища, или наше воображение от нахлынувших воспоминаний о Белом море так разыгралось, трудно сказать. Но вот что видим в этом ладном динамично-подвижном балансе композиционных решений простенького серенького пейзажа.
Треугольники – самые внутренне устойчивые фигуры. Прямоугольники – самые правильные, простые формы. Простота геометрических линий и форм композиции, цветовые акценты и пятна подчеркивают равновесное спокойствие, простоту и соразмерность Северной природы, её невероятную живучесть, но и ту легкость, с которой эту конструкцию человек способен сломать, смять, опрокинуть.
На Севере чаще смотришь на небо. Потому что оно низкое, как на этой картине и всегда на виду. Потому что человек на Севере одинок, обнажен и зависим – от погоды, от природы, от стихий, от ветра – слаб он или суров, и откуда дует. Принесет с Баренцева моря туман, бус, морось, на неделю-две, и куда денешься? Будешь сидеть на голой доске, грызть сушеную треску, да заливать казенным спиртом экзистенциальную тоску.
Но не в этот раз. На картине Ватагина изображено начало тихого солнечного летнего дня где-то в Кандалакшском заливе. Не-е-ет! Не дня. Это же белая ночь! Конечно... Лунные руны белых ночей белых вод Белого моря.
Север тянет к себе. Тянет на Север, на Север с большой буквы. Почему – никто из тех, кто заболел этой болезнью, так толком и не знает. На Север едешь за исцелением, за созерцанием, уединением, молчанием, приобщением. В городах этого не найти. На южных курортах этого ни за какие деньги не купишь. Север нужен для обретения простоты. Северный быт ясно показывает, как мало вещей необходимы человеку. Простота во всём – в природе, в быту, в целях твоего пути. Обретение простоты – уже само по себе достойная цель. Простоты того, из чего спокойная счастливая гармония жизни составляется. Три черные птицы, три белые птицы. Серое небо и блеклые сопки. Бледная соленая вода. Литораль. Фукусы. Валуны ледниковые. Каждый – произведение искусства. Крики чаек. Больше ничего. Счастье. Это ведь оно, да?
Вот о чем я думал, разглядывая картину с чайками, морем, валунами… На которой разгадывал линии лунных рун…
«Луч пропал, луна исчезла, небо почернело. … часть стены медленно-медленно отошла. Очертилась дверь … и беззвучно и тяжело распахнулась внутрь. Из глубины, словно пар, выплыла темнота, глазам … предстала глубокая зияющая чернота – разверстый вход в глубь Горы.»
Джон Толкин, “Хоббит или Туда и обратно”
Куда ведёт потайная дверь нашей картины, я не знаю. Но так и тянет шагнуть туда…Может быть этот каменный портал и не работает на перемещения в пространстве и времени…
Или…?
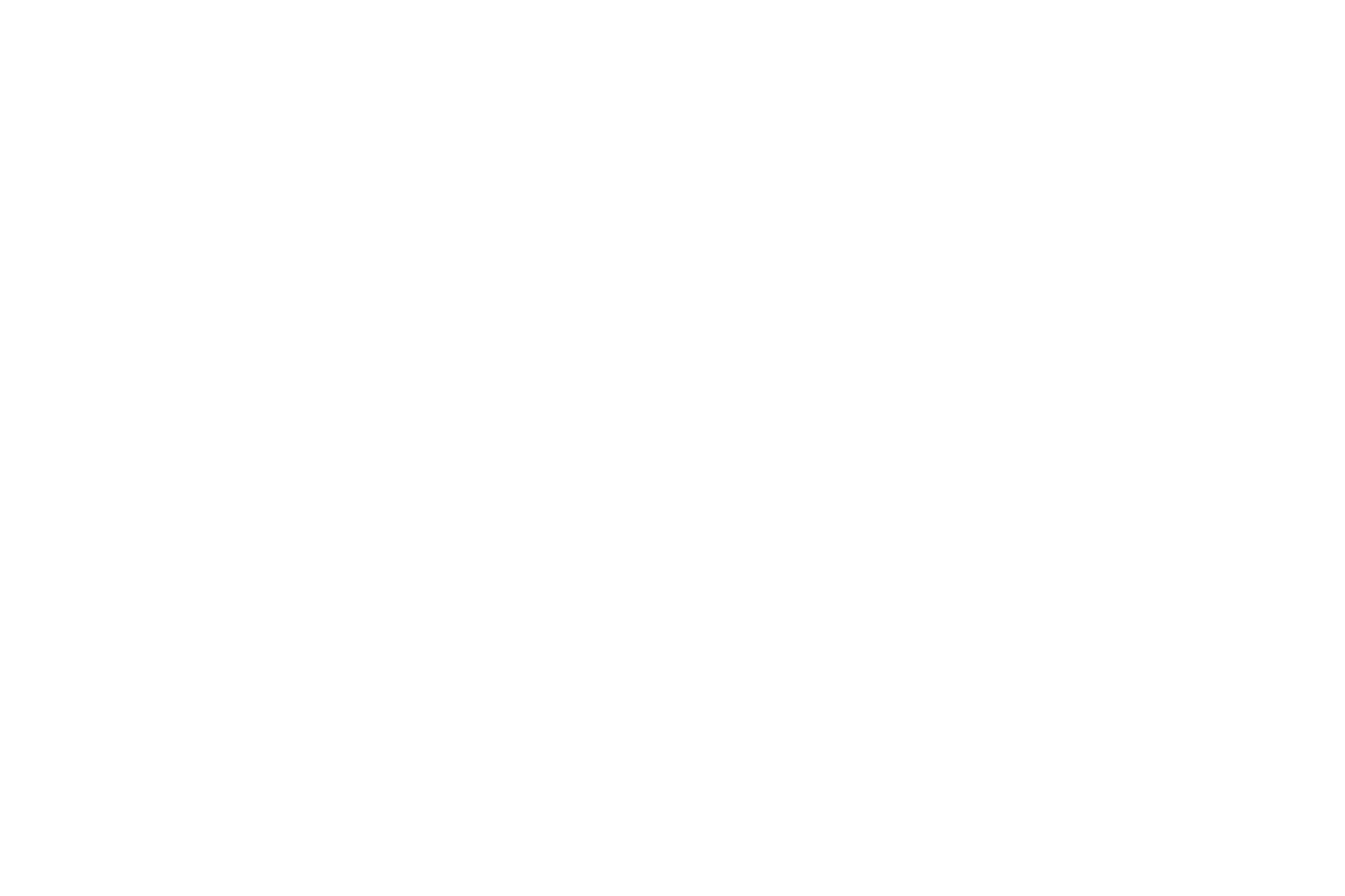
Павиан
Он Тот. Ну, в смысле не тот, а То-о-о-т. Или Тут, или Техути – древнеегипетский бог. Бог мудрости, знания и письменности, покровитель писцов, наук и священных книг, и сам был писцом верховного бога Ра. Да это же наш парень, коллега, соратник, ученый брат. Тот изображался в виде человеческой фигуры с головой ибиса, но чаще – в виде павиана бабуина. Это обезьяна такая – крупная, смелая, не боится ни леопардов, ни других крупных приматов, включая и нас с вами. Живут они большими социальными стаями и очень привязаны друг к другу. По ночам члены одной семьи спят, тесно обнявшись друг с другом. Если кому-то из них угрожает опасность, леопард там или гиена, не важно, все сразу бросаются на выручку соплеменника.
Главное внешнее выражение отношений – груминг. Это когда бабуины перебирают друг другу шерсть, очищая её от грязи и паразитов. Чем выше статус бабуина, тем больше сородичей его будут грумить. Наш герой на картине, похоже, тот еще мачо – сразу две самки выискивают вошек в его шкуре.
Но такой кайф доминантным самцам достаётся не просто так. Альфачи чаще всего рискуют собственными жизнями ради безопасности стада. Пока самки с детенышам спасаются бегством и прячутся в скалах или на деревьях, самцы бросаются на амбразуры в виде различных африканских хищников. Сплоченная группа бабуинов может без труда прогнать леопарда, льва и даже группу гиен. Да, собственно, с бабуинами никто особо и не хочет связываться. Мяса кот наплакал, а уйдешь с покусанной спиной и поцарапанной мордой. Оно тебе надо?
Бабуин смеётся в лицо диким кошкам, а ты своему начальнику и слова сказать не можешь…
Но даже такие суровые ребята способны на нежные чувства. Самки часто дружат с самцами разных рангов. Они общаются, спят, грумят и едят вместе.
Гимн Тоту. Папирус Анастази III
Хвала тебе, владыка дома, павиан с сияющей гривой, сладостный видом, приятный благорасположением, любимый всеми. Освещает он землю красотой своей. То, что на голове его, — из красной яшмы, а фалл его – из сердолика. Любовь его истекает из бровей его, и открывает он уста, чтобы оживлять. Вот владыка мой, это он сотворил меня; желает его сердце моё. Тот, будь для меня защитником, и не будет страха у меня перед глазом дурным.
А так с виду и не скажешь… Обезьяна и обезьяна. Сидит, задумавшись о несправедливости эволюции, не выведшей его в цари природы, грустит об упущенных возможностях на серой скале, погружающейся во мрак заката. А мог бы лежать на диване с чипсами перед теликом, да в тапках. Насколько круче! Не зря эволюция пару миллионов лет трудилась, отбирала самое лучшее.
Не грусти, бабуин! Это, похоже, не скала вовсе, а развалины древнего города. Города славного, шумного, торгового. Тысячи людей занимались здесь строительством, покупали, продавали, любили, ненавидели, поклонялись богам. Растили детей, учились. Умирали и приходили на суд мертвых Осириса. А ты – Тот, посланник светлейшего Ра – стоял там скромно в сторонке и записывал, фиксировал их дела. Взвешивал сердца людей на весах праведности.
И вот что теперь? Где эти шумные каменные улицы, по которым скакали всадники и ехали арбы с товарами? Где эти яркие ткани, богатые лавки, красивые женщины и темнокожие благородные воины в гремящих причудливых доспехах? Всё занесло песком забвения, ветер пустыни разрушил глинобитные стены и только бабуины – единственные его более или менее разумные обитатели – выискивают блох друг у друга на развалинах великого города.
Не грусти, бабуин! Ты еще будешь взвешивать сердца человеческие на весах суда Осириса. Там-то мы с тобой и встретимся. Ты же учтешь, что мы с тобой коллеги по цеху и тоже провели всю жизнь в поисках истины? Это же засчитывается при взвешивании праведников? Или…
Альбатрос.
Какое это наслаждение — ощущать, как за плечами мощно раскрывается в полную ширь то, что поднимет твоё тело в небо; как горячая кровь пульсирующими волнами сильнее бежит по телу; дыхание убыстряется, расширяет грудь и одаряет тебя подъемной силой. И ты обретаешь свободу, превращаясь… в летательный аппарат тяжелее воздуха.
Свобода — редкая форма счастья и немногие существа обладают им. Людям свойственно к нему стремиться, а полет издавна давал иллюзию свободы. Как, сначала кажется, просто её обрести, как она близка — расправил эти длинные, узкие, совершенные по форме трехметровые крылья, оттолкнулся широкими розовыми лапами с перепонками от скалы, набрал высоту в турбулентном потоке между волнами и… вот она — свобода. Свобода странствующего альбатроса в Южном океане. Хочешь — лети на восток, вдоль Земли королевы Мод и принцессы Елизаветы в море Космонавтов. Говорят, там этой зимой много кальмаров. Хочешь, лети на запад — вдоль скалистых берегов моря Беллинсгаузена и острова Петра Первого в море Амундсена. А то из пролива Дрейка рвануть прямиком на острова Тристан-да-Кунья. Каких-то пять тысяч километров. Синий простор океана – твой. Ты свободен. Ты одинок. Ты странник.
Иногда полезно побыть одному. Хотя бы лет пять-восемь.
На картине – многофигурная композиция, где персонажи двигаются в разных направлениях – вверх и вниз, справа-налево, вдаль и на зрителя. А некоторые вообще покидают пределы рамы. Поначалу кажется, что здесь страшный хаос и сумбур. Но постепенно среди этой суеты глаз выделяет сюжетное ядро – кончик вытянутого вертикально вверх розового клюва центральной птицы, прочно стоящей лапами на бурой, под цвет крыльев, скале.
Чем они там вообще занимаются? Вот эти странствующие альбатросы на бледно-голубой картине, напоминающей по колориту Рыловский «Голубой простор». Носятся кто куда, суетятся… Разве альбатросы не должны в благородном до звенящей идеальности полете без единого движения крыльев парить между прозрачными бледно-голубыми гребнями океанских волн, используя по максимуму закон Бернулли и принципы ламинарных потоков? Именно это они и делают большую часть свободного времени. Пока однажды…
Однажды альбатросы возвращаются на тот остров, на котором родились, и возвращаются не одни. Период странничества рано или поздно заканчивается. Полускрытые крылья, шея вытянута вверх – это не стартовая позиция для взлета, это поза импонирования – брачной демонстрации взрослого альбатроса, готового к продолжению рода благородных птиц. Но это только начало брачного танца, который альбатросы исполняют в течение нескольких месяцев.
Птица в позе импонирования – единственная статичная фигура на картине. Остальные персонажи беспорядочно летают в поисках непонятно чего. Стабильный центр нашел то, что ему нужно – и это вторая птица, которая стоит справа и сзади и смотрит на главного персонажа. А в вершине так любимого Ватагиным композиционного треугольника – уже готовая брачная пара альбатросов на заднем плане.
Эта пара давно стоит рядышком, глаза в глаза, клюв напротив клюва. Нежно и осторожно, словно боясь спугнуть интимный момент, пощипывают краями клюва оперение на голове друг друга. Вид у них при этом такой, будто нет в мире большего блаженства. Одна из птиц пробегает своим здоровенным бледно-розовым клювом по мелким белым пёрышкам на голове партнера, а тот или та – у альбатросов самцы и самки не различимы – которой адресованы эти нежности, подставляет то круглую щечку, то изящную шейку, прикрыв глаза от наслаждения — удовольствие, понятное каждому из нас — любому, кто хотя бы раз в жизни ощутил ласковое прикосновение.
На островах, где гнездятся альбатросы проходит бесконечный танцевальный марафон. Если птицы не заняты высиживанием яиц, то они танцуют. Танцы альбатросов – самые продолжительные и замысловатые в мире животных. Раскачиваясь из стороны в сторону, словно качая маятник, тихонько хрипло гогоча, один альбатрос приближается к другому: шея вытянута, голова наклонена вниз. Второй принимает такую же позу. Стучат клювом о клюв друг друга, мотают головами из стороны в сторону, будто говорят «нет», которое на самом деле означает «да».
Танцы альбатросов – словно детская игра на внимательность, где ведущий выкрикивает команды, а игроки должны быстро их выполнить. Только со стороны не разобрать, кто ведущий, а кто игрок.
Поднимите голову. Опустите голову. Энергично кивайте. Щелкните клювом так, словно репетируете игру на деревянных ложках. Щелкайте клювом с такой скоростью, чтобы слышался звук гремящих кастаньет. Щелкайте, щелкайте! Щелкайте клювом, кивайте головой из стороны в сторону и хрипло гогочите. Расправьте одно крыло и щелкайте клювом у себя под мышкой, постепенно поднимая голову. Расправьте оба крыла. Медленно кружите с партнером крыло к крылу, то низко кланяясь, то запрокидывая голову к небу. Экстаз танца полностью захватывает птиц, словно исполнителей древних священных обрядов. Да это и есть священный обряд таинства брака. Цель танцев альбатросов – демонстрация достоинств, тест на согласованность движений, изучение реакций партнера. Причина – сугубая моногамия этих птиц. Каждый из них словно говорит: «Посмотри, я здоров и полон энергии, смотри, как блестяще я со всем справляюсь». Всё это для того, чтобы показать и оценить здоровье, силу и превосходное состояние будущего партнера, с которым проведешь всю долгую жизнь, все эти пять-шесть десятилетий. Это выбор навсегда. Тут нельзя промахнуться, нельзя ошибиться. Поэтому альбатросы и танцуют.
Ах, как же это прекрасно – твой клюв и моё крыло. Твой клюв и моя шея. Как романтично танцевать вдвоём на этом одиноком острове посреди океана… Только соседние пары иногда слишком громко гогочут... Но мы слишком заняты собой...
– Успеваешь за мной?
– Можешь быстрее?
– Подходишь ли ты мне?
– А я тебе?
– Могу ли я доверить тебе свое потомство, свою жизнь и потратить на тебя свои лучшие годы? Ответь же мне…
– Смотри – я поднимаю голову и торжественно гогочу…
Один раз в год самка странствующего альбатроса откладывает единственное яйцо, которое весит полкилограмма. Она проведет в гнезде три месяца, меняясь с партнером, улетая покормиться в открытый океан. Вылупившийся птенец растёт очень медленно и остается на одиноком неприветливом острове еще 8 месяцев. Пара альбатросов обречена родительским инстинктом кормить его, отправляясь на поиски пищи за тысячи километров и снова неизменно возвращаясь.
Когда выбираете, в чью корзину положить единственное яйцо, не должно оставаться сомнений в том, что партнер предан вам.
Когда неделями сидите без пищи на скалах, открытых всем ветрам, ураганам, волнам и дождям, только уверенность в другом даёт силы терпеть.
Когда ждёте возвращения партнера, который должен покормить птенца и сменить вас на гнезде, надо верить в то, что он предан вам.
Когда улетаете на несколько недель за кормом в неприветливый Южный океан, вы должны быть уверены, что вас ждут на гнезде, и что всё не напрасно, и вы вкладываете силы в своих собственных птенцов.
Когда собираетесь прожить с единственным спутником самую длинную среди птиц жизнь длиной в шесть десятилетий, у вас не должно оставаться сомнений в том, что он предан вам. А вы – ему. Люди – такие альбатросы…
Думать картины Ватагина
Чемодан никак не закрывался. Из него торчали лапы, копыта, пушистые хвосты и мягкие бархатные уши, перья и лохматые морды. Морды внимательно на меня смотрели – и что он собирается делать дальше?
Надо же как-то завершать это внезапно распухший, никак не желающий закрываться, как переполненный отпускной чемодан, сезон. Ведь планировался короткий, в две-три истории рассказ про картины художника в Зоологическом музее, а вышло вон что... уже 24-й выпуск. Чемодан распух, и его надо как-то закрывать. А он никак не закрывался.
И вот однажды, уже под вечер, в апреле, когда солнце садится на Большой Никитской улице за огромным, мрачным, неопределенно-серым зданием подстанции метрополитена, выстроенной на месте взорванного Никитского монастыря, я проходил через Верхний зал музея. Отшумевший день выдался суетлив и криклив. Наступал синий час тишины. Последний луч театральным софитом резко освещал ряд Ватагинских картин под балюстрадой зала.
И тут послышался тихий храп. Нет, не тот, бросающий в пот развесистый храп соседа по узкому пеналу купе поезда дальнего следования. И не тот неуверенный и острожный, с оглядкой, какой случается, когда старушка в вязаной кофточке, дежурная по залу, задремлет, свесив голову на грудь. Нет. То слышался храп и тихое ржание лошади. Лошади Пржевальского. Она стояла с другой стороны витрины, невидимая мне, но она там была.
Справа раздался сухой скрежет жестких перьев. Повернулся – на меня в упор насмешливо смотрел марабу, ёжился, перебирая крыльями, от вечерней прохлады, наползающей с далекой африканской реки.
Дальше в глубине зала слышался тихий плеск – тело гиппопотама медленно погружалось в теплую воду, как огромная, серая, матово блестящая подлодка. И только пузырьки воздуха шуршали, пробегая по его шершавой коже из глубины.
Резкое хлопанье крыльев пары альбатросов и костяной стук их клювов друг о друга.
Хруст наста – тигры.
Глухой топот копыт по камням в серых лишайниках – овцебыки.
Я шёл, задрав голову, по залу, а на картинах жили…
«... Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, – словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли.. .
Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно, холодно, холодно.
Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно.» – вспомнился мне вдруг монолог Нины Заречной из Чеховской «Чайки».
Но здесь и сейчас, в этот тёплый сумеречный час звери и птицы музея больше походили на живые персонажи живых картин под готическими сводами залов Хогвартса с бездонным потолком звездного неба. Это были не просто изображения, это были участники. Здесь, в пространстве музея, шёл наш разговор. Звери и птицы встречали и провожали взглядами зрителя, который с ними прожил, которых их передумал, которому они стали как родные. Или он теперь стал как член стаи – одной большой музейной стаи. Ты и мы. Здесь. Вместе.
Картины Ватагина вдруг стали не просто плоской иллюстрацией к учебнику зоологии или бесплатным приложением к экспозиции. Теперь это высокая интеллектуальная игра, в которой автор зашифровывал смыслы, высказывания, моральные и даже религиозные идеи, а зрителю предложено их разгадывать. Но у каждого – собственный маршрут, собственное путешествие по этим лабиринтам разума.
Картины Ватагина насквозь пропитаны символизмом, словно мох сфагнум темной торфяной влагой на клюквенном болоте – стоит только чуть наступить, и след наполнится водицей. Но этим путём надо идти…
Странное ощущение возникает, когда отражение наших зрачков на пограничном стекле витрины совпадает со взглядом льва, или медведя, или тигра. Глаза поднимаются из сгустка неживого сумрака и смотрят оттуда. Оттуда – сюда. У вас есть стопроцентная убежденность в собственной настоящести? Я бы не был так в этом уверен. Стекло кажется затвердевшим сгустком воздуха, рубежом, очерчивающим границы разных миров и разных времен. Стекло – глиссада и финал, конечная станция назначения человеческого дыхания, свидетель последнего вздоха. В нём можно увидеть игру света нашего воображения и глубину нашей фантазии. А еще в нём отражается память встреч и глубина чувств.
В музее выпукло видна граница между мирами. Между прошлым и будущим, между настоящим и понарощечным, между живым и мёртвым, между мной и Другим. Этот рубеж бесстрастно поблескивает чуть неровным старинным стеклом витрин и множеством отражений путает нашу ломкую реальность с той, которая по другую сторону… По другую сторону чего? Кажется, что по нашу сторону – мир живой. По ту сторону – мир мертвый. Но… Жизнь такая хрупкая… Вот ведь мы уйдем, исчезнем, вернемся в естественный круговорот природы. А они – останутся. Ну, если конечно, мы не завещаем свой скелет Зоологическому музею МГУ. Вот тогда точно появится шанс остаться в вечности. И продолжать говорить с теми, кто придет после нас в эти залы.
Время для них – остановилось. Для нас – ещё течет. Но какие они настоящие, не понарощечные. Они в окне прошлого, но длятся в настоящее и будущее. Через них устанавливается связь между нашими мирами – между тем миром, в котором мы, и тем, проемом в который являются они, царством мертвых. Это призраки и тени прошлого — экспонаты Зоологического музея.
Существа, которые глядят со всех сторон сквозь стекло витрин и с высоты картин, это не просто музейные артефакты, собранные учеными с их тщательностью и перфекционизмом, присущим зоологам-систематикам. Созданья эти являются нам, чтобы пробудить отклик в нашем сердце, в том уголке, который обычно захламлен и завален ненужной рухлядью и дрянью, где, тем не менее, дремлет производящая и творящая сила воображения.
Наш взгляд и наше воображение высвобождает страдающих тварей из плена сиюминутности, схватывает их в совокупности, не разделенных условностями систематики на таксоны, не разлучённых пограничьем витрин, отменяет приговор одиночного существования. Оживляет, овеществляет мечту, превращает не бывшее в сущее, иллюзию в реальность, временное в вечное дление….
Вот откуда та неповторимая атмосфера, которой наполнены наши музеи, собирающие природные объекты – атмосфера затворничества, молчания и созерцания. Да, это царство мертвых, без которого не прожить нам – живым.
Картины Ватагина – это послание человеку видящему, ищущему, различающему смыслы и ценности. Слушающему и слышащему. Думающему. Картины населяют музей, делают его пространство жилым, уютным, вместо окон распахивают проем в мир, они призваны радовать глаз, когда на дворе ненастье. Теперь я свёл с ними такое знакомство, что не хочу и расставаться. Подружитесь ли с ними вы – решать вам самим.
Чемодан никак не закрывался. Из него торчали лапы, копыта, пушистые хвосты и мягкие бархатные уши, перья и лохматые морды. Морды внимательно на меня смотрели – и что он собирается делать дальше?
Надо же как-то завершать это внезапно распухший, никак не желающий закрываться, как переполненный отпускной чемодан, сезон. Ведь планировался короткий, в две-три истории рассказ про картины художника в Зоологическом музее, а вышло вон что... Чемодан распух, и его надо как-то закрывать. А он никак не закрывался.
И вот однажды, уже под вечер, в апреле, когда солнце садится на Большой Никитской улице за огромным, мрачным, неопределенно-серым зданием подстанции метрополитена, выстроенной на месте взорванного Никитского монастыря, я проходил через Верхний зал музея. Отшумевший день выдался суетлив и криклив. Наступал синий час тишины. Последний луч театральным софитом резко освещал ряд Ватагинских картин под балюстрадой зала. И тут послышался...
Читать далее>>>