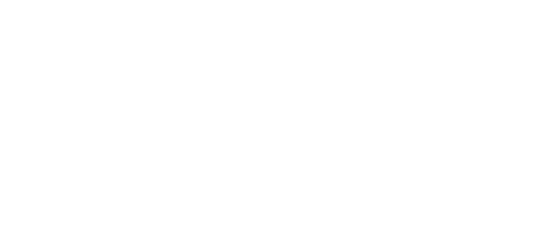Впервые в виртуальном пространстве в одном месте собраны воспоминания и письма сотрудников, авторские рисунки, архивные материалы и отчеты музея за этот период, исторические и современные фотографии коллекционных сборов военного времени.
Зарыты в нашу память на века
И даты, и события, и лица,
А память — как колодец глубока.
Попробуй заглянуть — наверняка
Лицо — и то — неясно отразится.
Разглядеть, что истинно, что ложно
Может только беспристрастный суд:
Осторожно с прошлым, осторожно -
Не разбейте глиняный сосуд!
В.С. Высоцкий
В основном это были оборонные работы – главным образом копка противотанковых рвов, и помощь в отправке раненых в глубокие тыловые госпитали.
Часть сотрудников Зоологического музея ушла в Краснопресненскую дивизию народного ополчения.
там, где мой народ, к несчастью, был...»


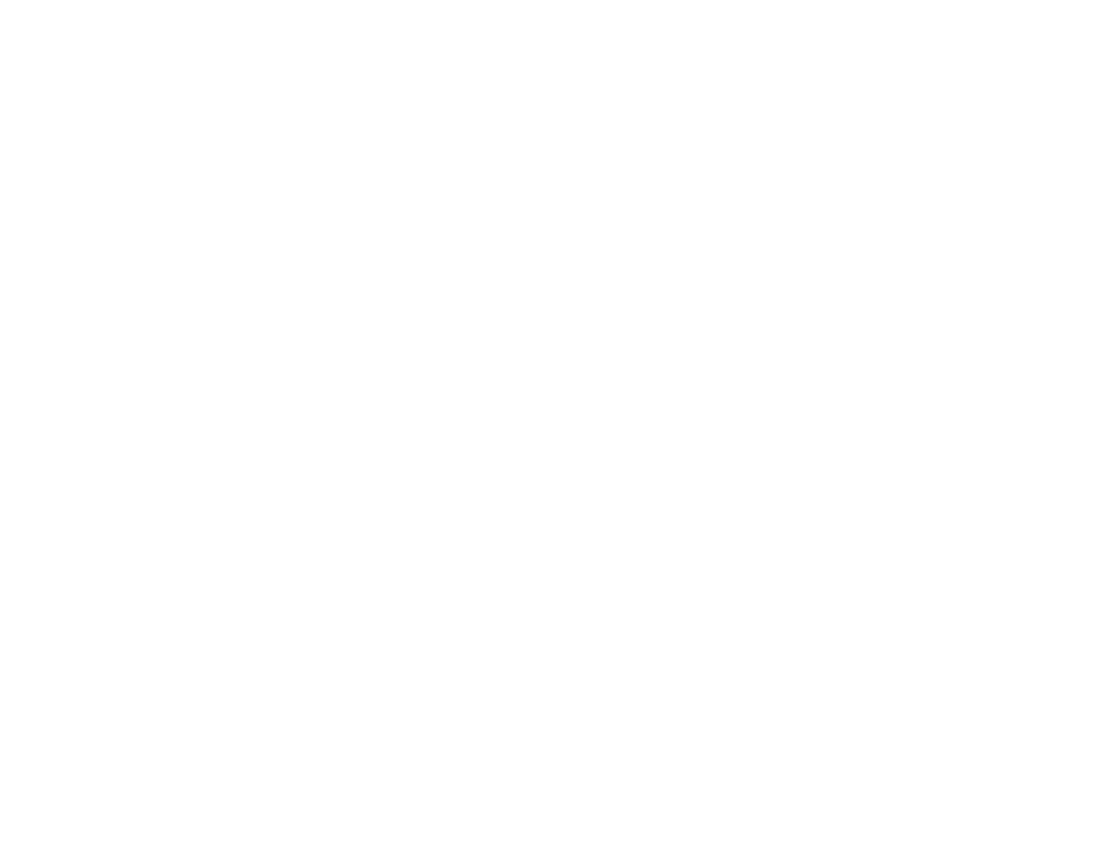
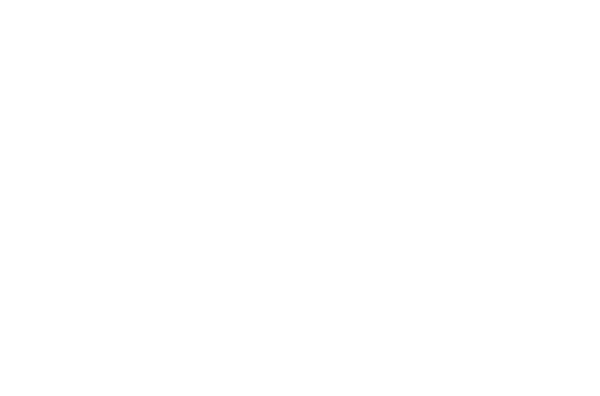
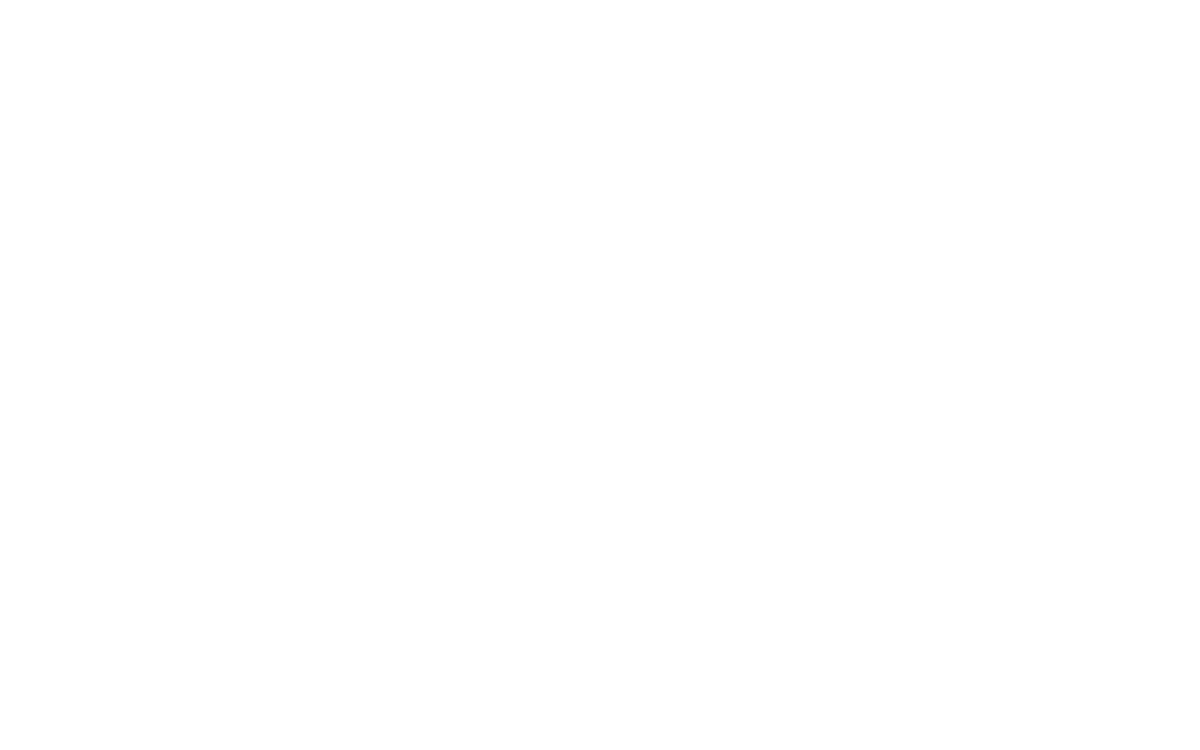
МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ДНИ ВОЙНЫ (ЭВАКУАЦИЯ 1941-1943 гг.)
Воспоминания И. С. Кулаева
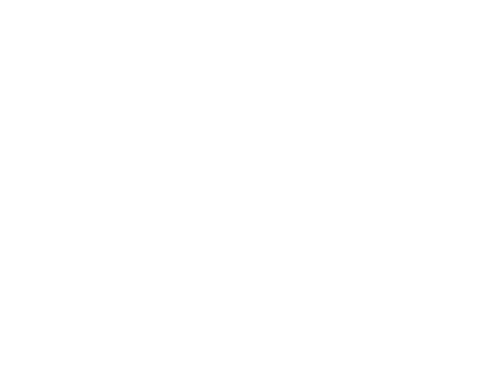
"Несмотря на весьма сократившиеся штаты, Музей не прекращал работать по хранению коллекций, что в особенности усложнилось необходимостью работ по ликвидации последствий от взрыва авиабомбы, упавшей на территорию Университета и произведшей большие разрушения. В Музее были выбиты почти все стекла в окнах, сломаны многие оконные рамы, разбиты стекла в витринах верхнего и нижнего зала.
В связи с охлаждением здания происходили многократные порчи водопроводных труб и отопления, что приводило к заливанию водой всех трех зал музея."
Из Отчета о деятельности Зоологического Музея за 1941 год)
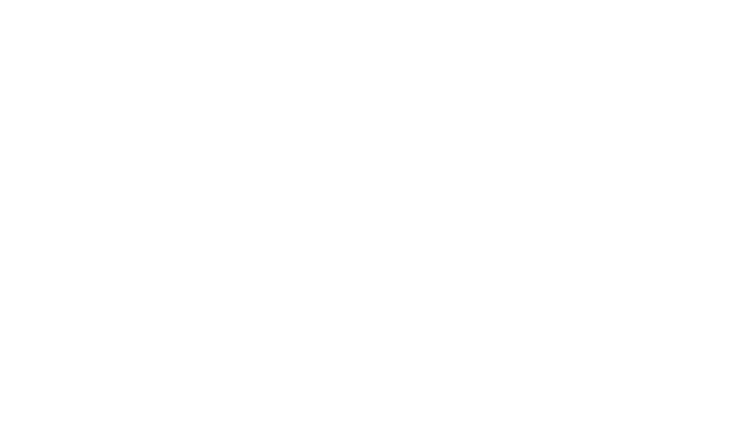
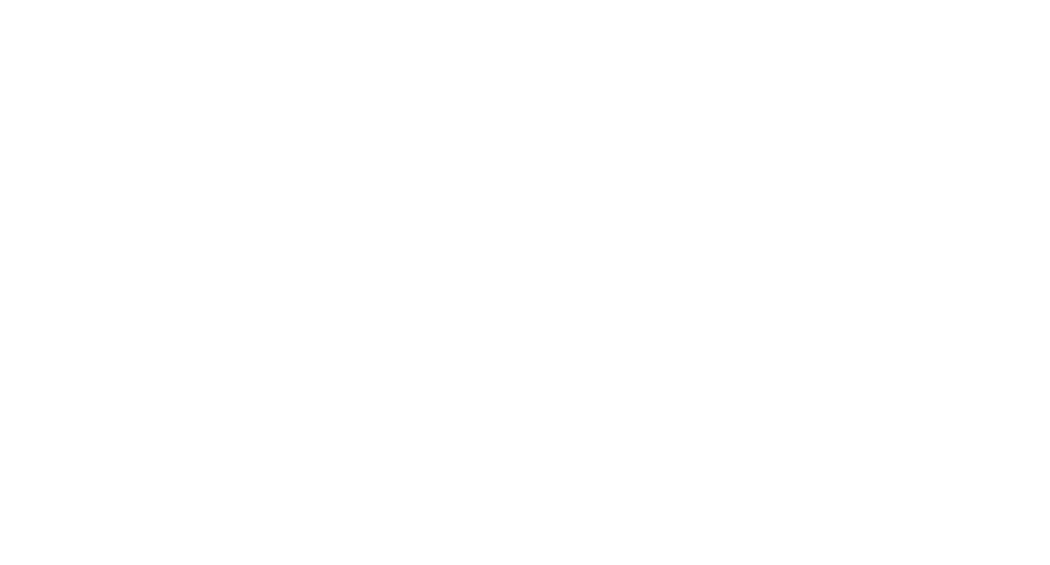
(Московский университет в Великой Отечественной войне. М., 1975. С. 38)
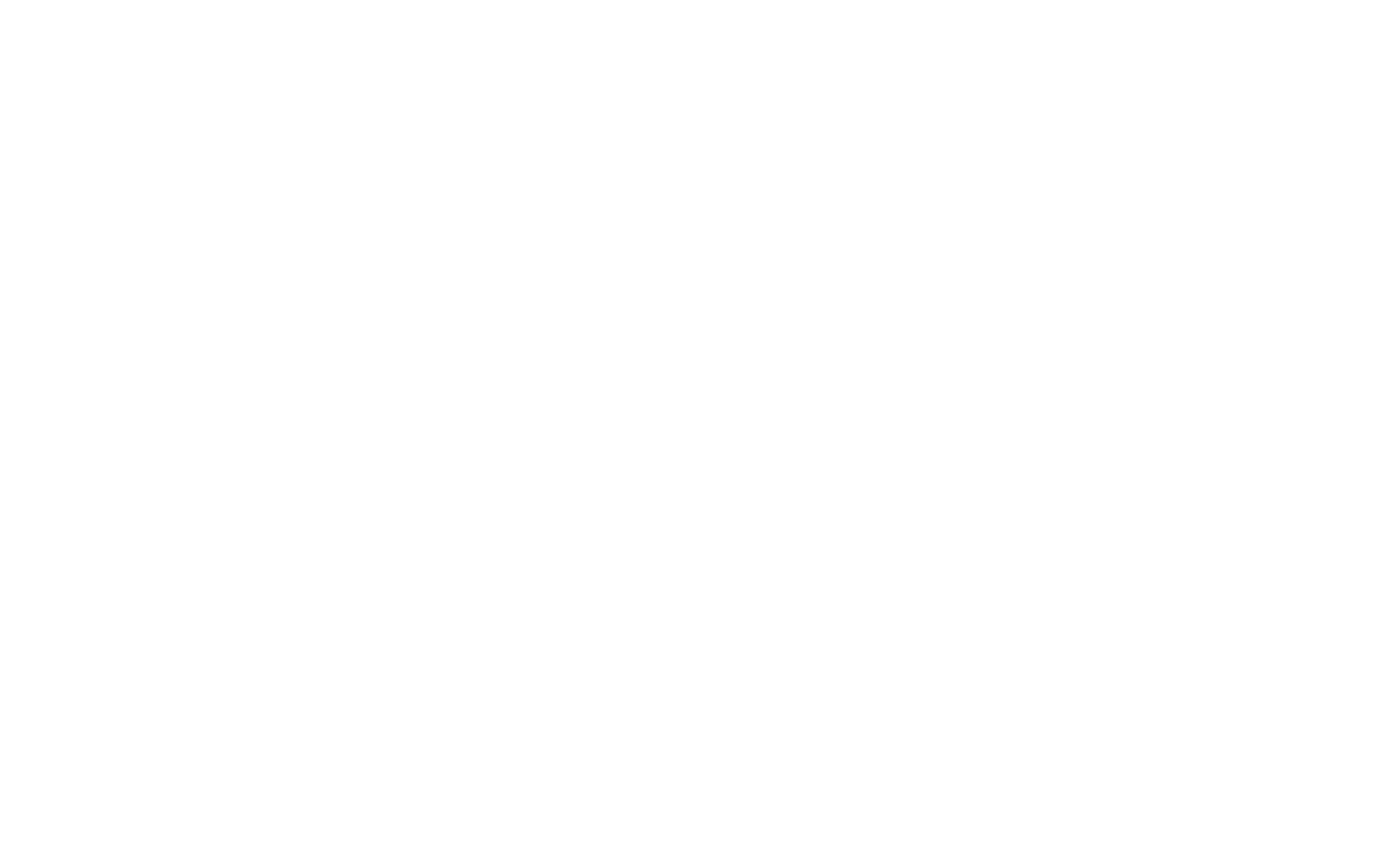
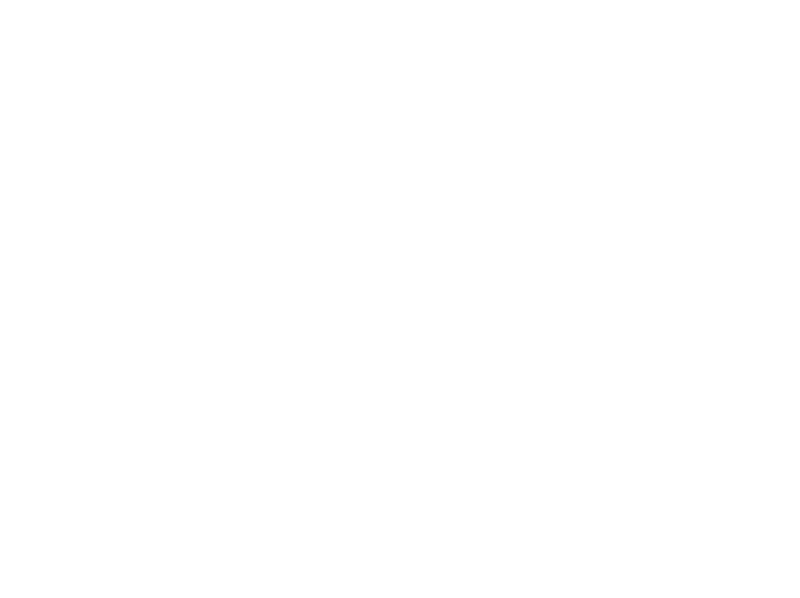
(на фото – подготовка к эвакуации экспозиции Дарвиновского музея)
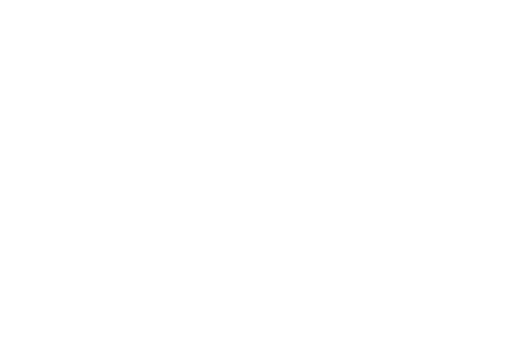
В силу этого коллектив научных работников МГУ был лишён возможности продуктивно работать и полностью включиться в научно-исследовательскую работу народно-хозяйственного и оборонного значения.
Архив МГУ, ф. 1, оп. 4, ед. хр. 91, Протокол №5, 19–23.02.43;
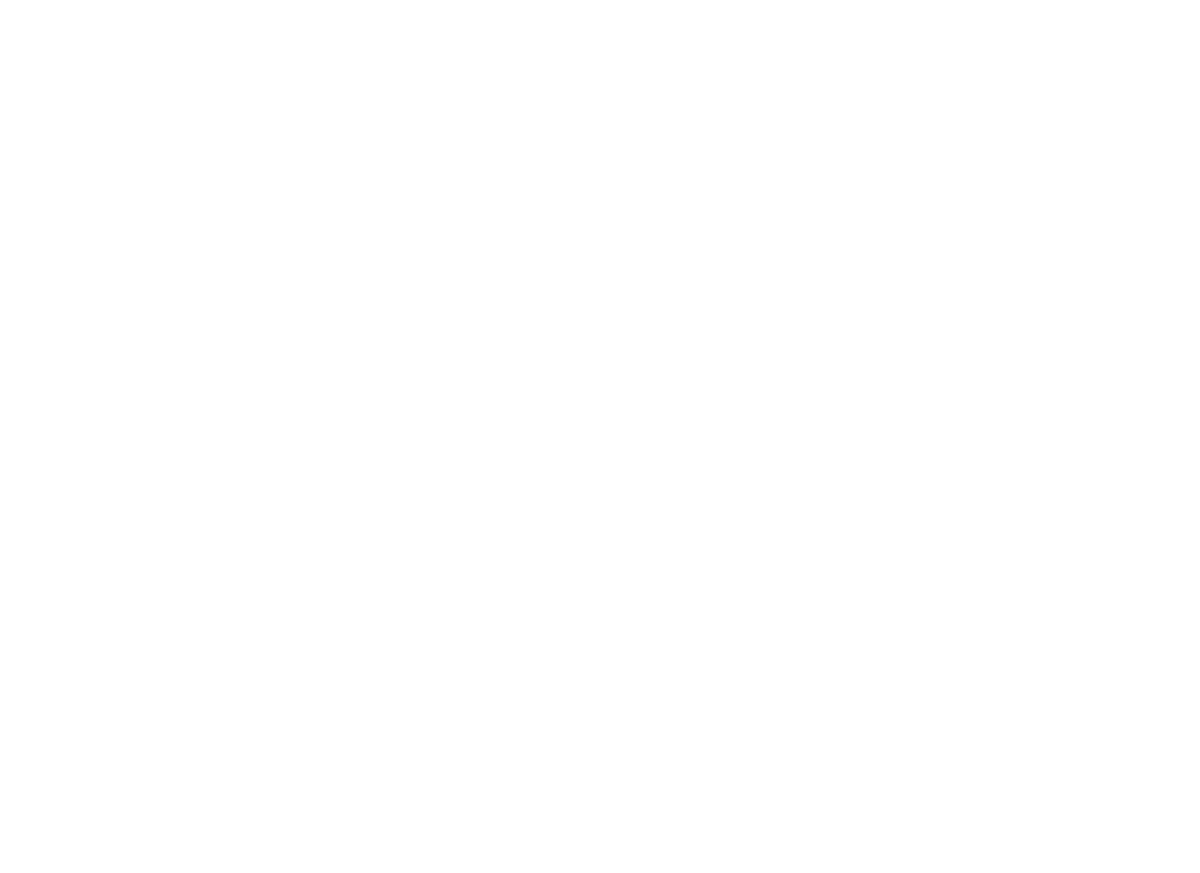
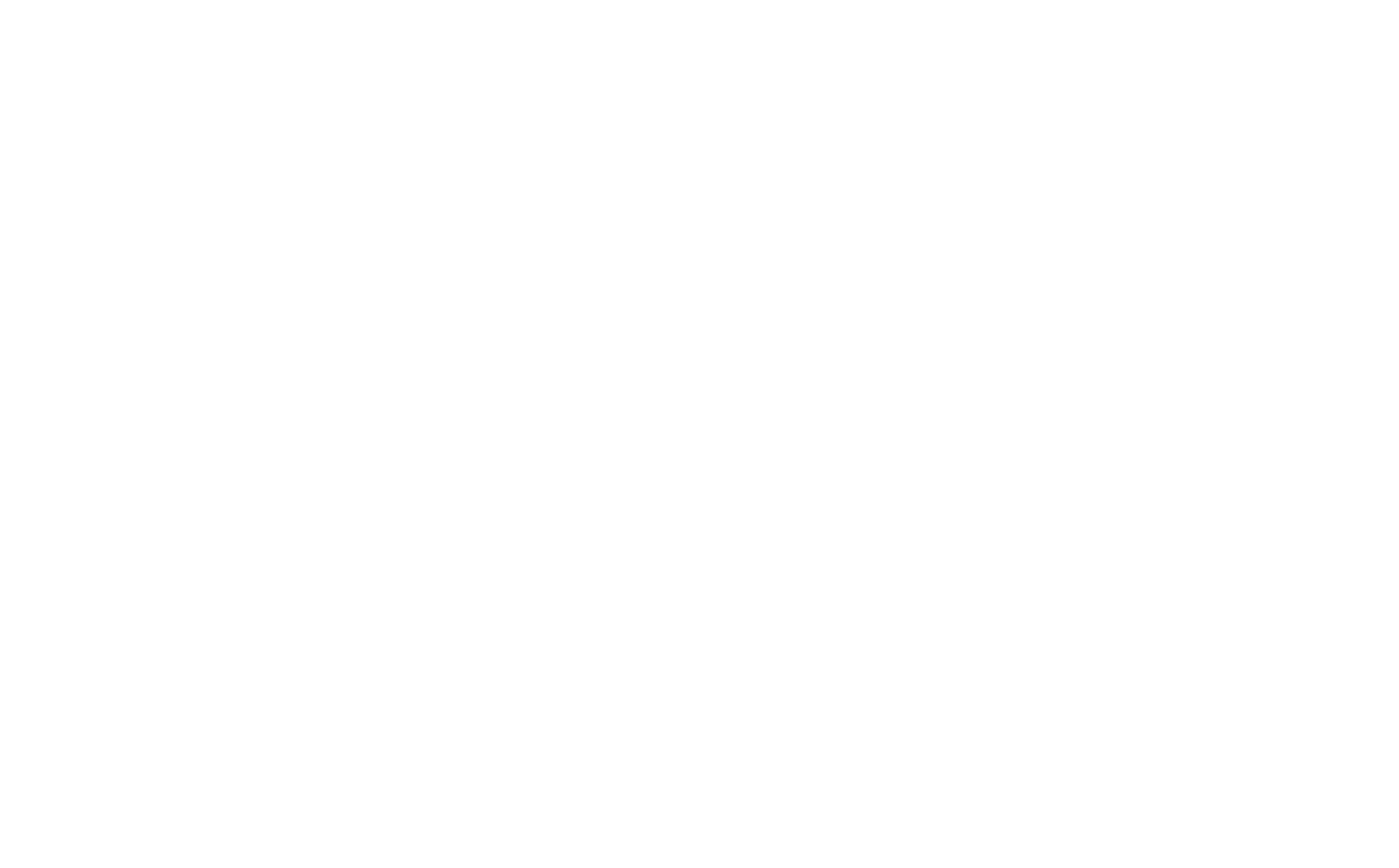
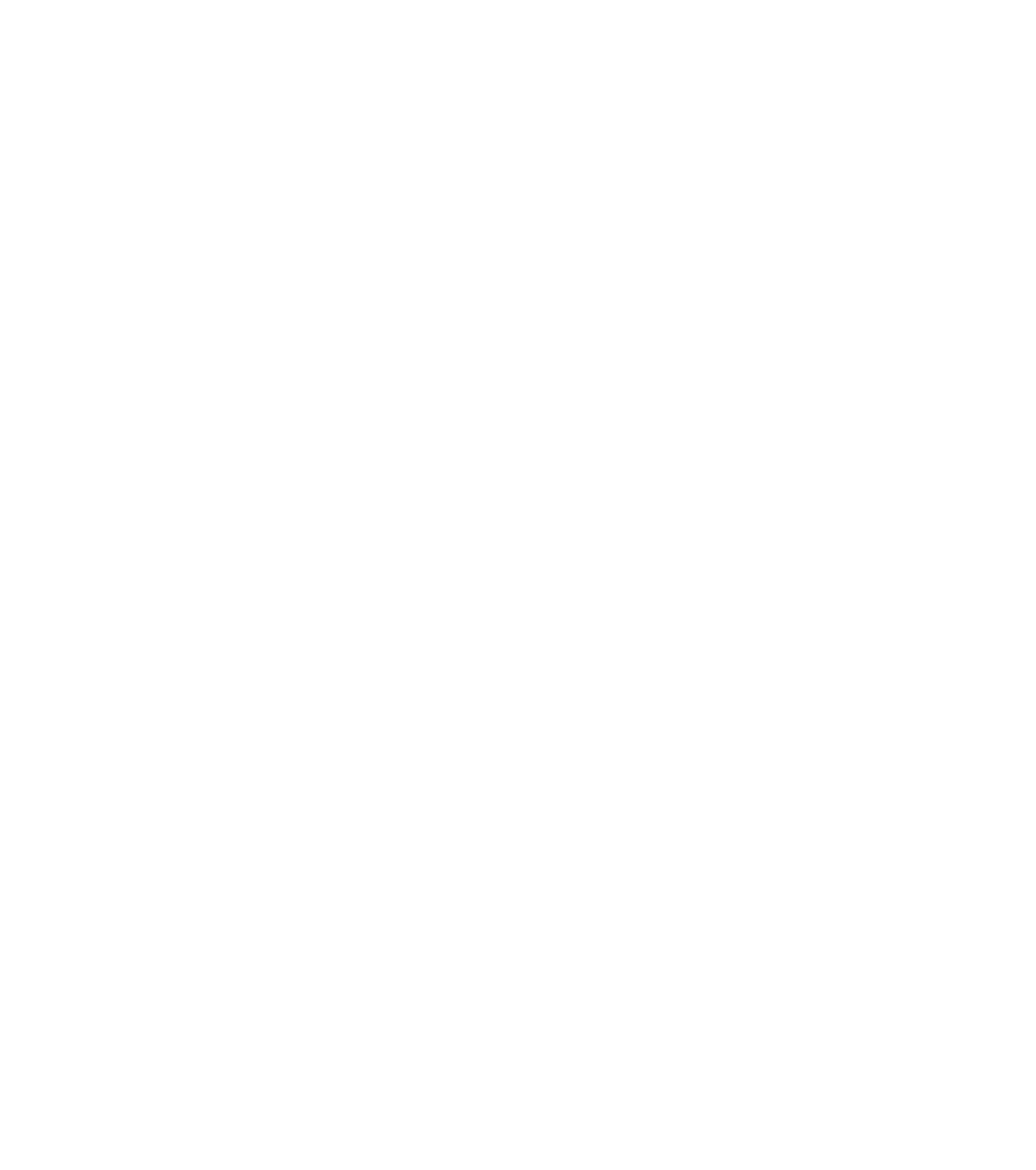
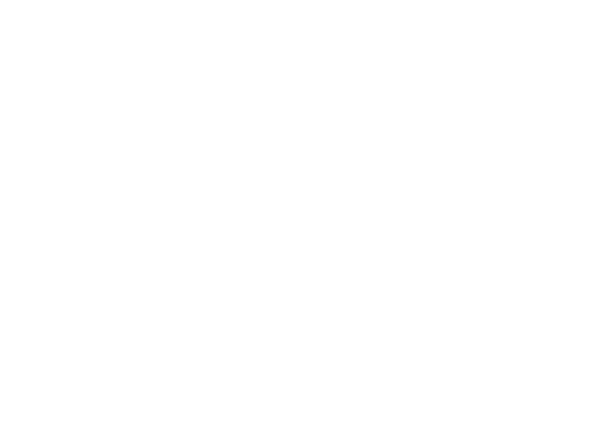
Музей приходил в себя ... Проводился обширный ремонт здания и его внутренних помещений, пострадавших от взрыва бомбы, экспозиция готовилась к открытию музея и приему посетителей, коллекции, вернувшиеся из эвакуации, выводили из состояния консервации, принимали свой довоенный вид. Возвращались сотрудники, налаживалась мирная жизнь.
«Несмотря на общие военные и послевоенные трудности, необходимость проведения спешных внеплановых работ, работы музея за отчетный период кажутся удовлетворительными...
Следы военных лет сильны и к концу отчетного года»
Из отчета музея за 1945 г.
2 июля 1941 г. ЦК ВКП(б) предложил местным партийным организациям возглавить создание народного ополчения. В Москве мобилизация и формирование частей проводилось по районам города, поэтому дивизии носили их названия: 6-я Дзержинская, 21-я Киевская... МГУ располагался на территории Краснопресненского района, в котором находились также машиностроительный завод «Красная Пресня», текстильный комбинат «Трёхгорная мануфактура», Московская консерватория, Юридический институт. Записывали и временно расселяли добровольцев этих организаций по районным школам и клубам.
Уходили из Москвы в своей одежде, обмундирование получали в пути, на привалах, так же как и оружие. Часть ополченцев отправилась прямо из университета <…> в походе проходили строевую подготовку, изучали оружие, боевые уставы, знакомились с основами военной техники.


После боев под Ельней 6-7 октября 1941 года практически перестала существовать: было потеряно более половины личного состава, дивизия была отрезана от основных сил. Часть уцелевших бойцов пополнила партизанские отряды, часть вышла к своим. Официально расформирована в конце ноября.
«Тяжело было видеть, как люди, боевая техника, танки, артиллерия откатывались на восток сплошным потоком, который прерывался только бомбёжками противника. Не чувствовалось никакого управления. Части и соединения перемешались» (Г.Ф. Ситник).


В деревне Уварово стоит зенитная пушка, посвящённая воинам-ополченцам 975-го артиллерийского полка 8-й дивизии. Мемориал, посвящённый погибшим бойцам, был сооружён в 1991 г. по инициативе Г.Г. Чёрного. Ветераны, участвовавшие в тех боях, определили место для монумента – в 200 метрах от бывшего командного пункта дивизии. Этот памятник, в свою очередь, был поставлен вместо небольшого обелиска, построенного студентами-физиками в юбилейном 1975 г.
В 2006 г. на здании Образовательного центра Московского зоопарка (ул. Красная Пресня, д. 4А) была открыта мемориальная доска 975-му артиллерийскому полку, полностью сформированному из сотрудников МГУ. Из пробитой брони видна снарядная гильза, в загибе – маленькая свеча, над ними – доска чёрного камня с надписью и выщербленными, как от обстрела, краями (архитектор И.А. Гусев).
Летопись Московского университета,
Крупным планом: 8 Дивизия
Колосов Д.С. - помощник директора
Никулочкин В.А. - мастер-препаратор
Ульянин Н.С – и.о. директора музея
Федулов В.К. – заведующий мастерской




К Москве далёкой мысли улетают.
И Моховая снится нам не раз.
Своя квартира в помыслах витает,
А с нею газ, водопровод и унитаз.






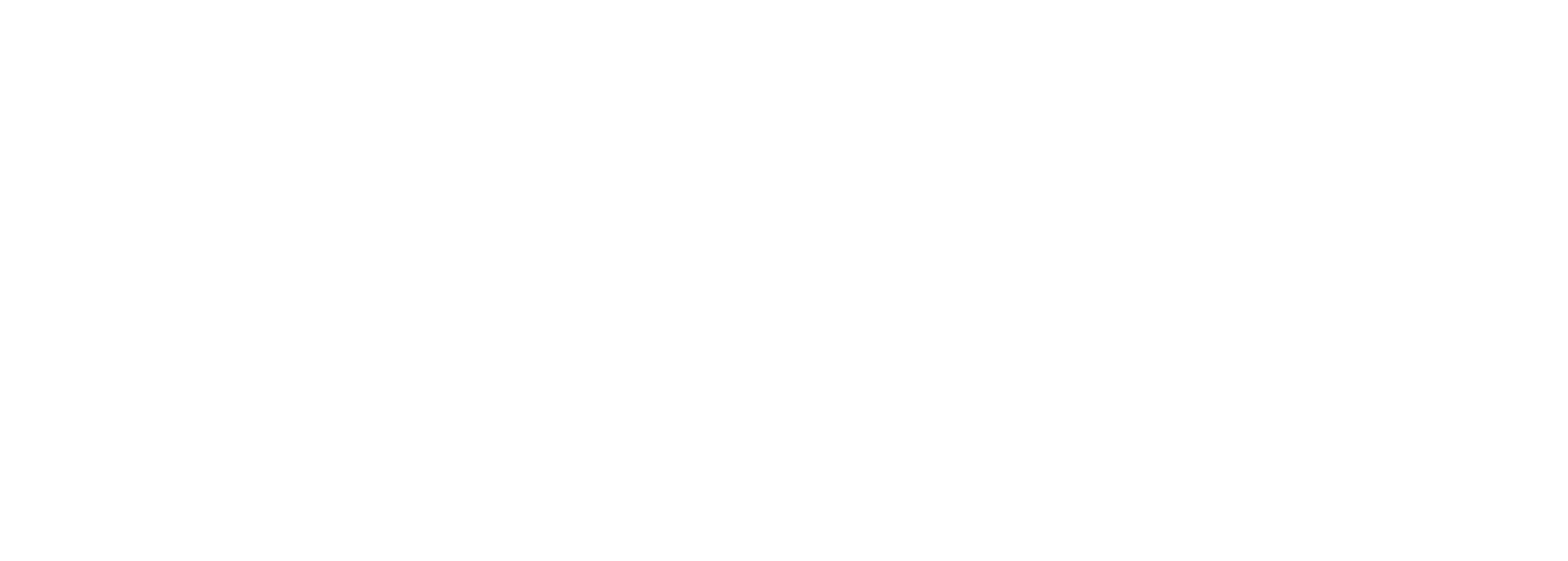
Университета было обезврежено и погашено 272 зажигательных бомбы, и лишь однажды произошло незначительное загорание от термитно-зажигательной бомбы.
...
Ночью 29 октября на территорию внешнего двора так называемого "нового здания"
(сейчас здание факультета журналистики) была сброшена крупная фугасная бомба.
Взрывной волной был опрокинут памятник Ломоносову, смещен купол на здании
библиотеки, сорваны двери, подняты полы и забиты все окна в учебном корпусе. Сильно пострадало и "старое" здание. Всего в Университете было выбито около 3-х тысяч оконных рам. Взрывной волной был контужен студент биофака... После взрыва вскоре вышла из строя вся отопительная система МГУ».
Из воспоминаний профессора Д.А. Транковского,
начальника службы управления МПВО МГУ в годы войны
...Ночью мы дежурили на крышах и чердаках, а кто постарше — на лестницах и в аудиториях, днём были заняты на разных работах, в зависимости от надобности и сезона. Летом 1941 года ездили периодически на окраину Москвы рыть укрепления, поздней осенью-зимой разгребали снег, занимались восстановительными работами, часто начальник пожарной команды проводил учения....»
Штаб команды Местной противовоздушной обороны МГУ (МПВО МГУ) был организован уже 22 июля 1941 года. Факультеты и корпуса Университета были назначены “подобъектами”, со своими начальниками и командами из числа сотрудников факультетов и не уехавших в эвакуацию студентов и аспирантов. Участники команд организовали круглосуточное дежурство на своем объекте. Здание Зоологического музея фигурировало в перечне как “объект № 2”.






Ростислав Барто (1902 - 1974) - русский советский художник, член общества художников “Цех живописцев”, МОСХа. Произведения художника входят в собрание крупнейших музеев, в том числе Третьяковской галереи, Русского музея…
Ростислав Барто был искренним любителем и ценителем природы, увлеченным натуралистом, держал у себя дома богатую коллекцию певчих птиц, пресмыкающихся, рептилий. Будучи увлеченным натуралистом, Ростислав Барто часто посещал Зоологический музей и был знаком со многими музейцами.
Первой женой Ростислава Барто была Наталья Алексеевна Северцова - дочь известного биолога, академика Алексея Николаевича Северцова. В годы войны Ростислав Барто вместе с женой жил в «профессорской» квартире Северцовых в здании Зоологического музея и активно участвовал в жизни музея. Серия портретов членов команды противовоздушной обороны и сотрудников была создана им в конце 1941 года.
члена «пожарной» команды биофака, в годы войны — аспирантки кафедры зоологии беспозвоночных
Война застала меня в Кандалакшском заповеднике, куда я поехала с мужем, аспирантом кафедры зоологии позвоночных, В.М. Модестовым, только что защитившим диссертацию. Он ехал в качестве зав. научной частью Кандалакшского заповедника, я, как аспирант Л.А. Зенкевича 1-ого года обучения, собирать материал по теме. Когда началась война, мы с мужем были на островах и, видя, пролетевшие самолёты, предполагали, что это манёвры, пока к нам не приехали и не сообщили страшную весть. Я была эвакуирована с последним эшелоном вместе с сотрудниками заповедника, Н.Н. Карташевым, тогда студентом-дипломником и писателем Г.С. Скребицким, приезжавшим в заповедник писать книгу. Мы должны были пересаживаться на другой поезд на станции Мга под Ленинградом, и, как потом выяснилось, наш поезд был последним – дорога на Ленинград была отрезана в тот же день. Мгу заняли немцы. Муж оставался ещё в заповеднике и, как мне писал, объехал все острова, прощаясь с каждым, со своими научными планами и мечтами ( кстати его хлопотами мы обязаны, что остров Великий стал заповедным). Мы прощались тогда с ним навсегда – он погиб смертью храбрых 9 августа 1941 года на Карельском фронте, «похоронку» получила через месяц.
Я приехала в Москву, сразу же была зачислена в пожарную команду Биофака (до эвакуации университета её начальником был сотрудник музея В.И. Цалкин, а после эвакуации – Д.М. Выжлинский). Мы были на казарменном положении – трое суток дежурства, на четвёртые отпускали домой. Наш пост вместе с Н.Н. Горчаковской был залом Сравнительной анатомии Зоомузея. Спали, не раздеваясь, с перерывами на время тревоги. Тревоги чаще всего были, когда стемнеет и до 4-х утра. Наши спальни были в разных комнатах Зоомузея и Биофака. Особенно безопасно и «уютно» я себя чувствовала в кабинете проф. Б.С. Матвеева, под его рабочим столом, в этой же комнате спали ещё три девушки – на диване, на крышке дивана и на столе. Когда бывала дома (а наш дом находился на углу Красной площади) мы с мамой в убежище не ходили, но во время налётов – замирало сердце от прерывистого гула фашистских бомбардировщиков, тем паче, что, когда немцы оказались близко от Москвы, с нашего разрешения, нам под пол в кухне положили запасы тола, что отнюдь не прибавляло храбрости. В университете, «на людях» чувствовала себя лучше, почему-то было не так страшно.
Самым страшным днём был день 16 октября, когда фашисты были на подступах к Москве и на улице Герцена мы слышали гул канонады. С фронта приезжали друзья, подбадривали нас. Помню, как в нашу «дежурку» зашёл антрополог А. Шмаков и вселил в нас уверенность, что Москва крепко защищена и у нас как-то стало легче на душе.
29-го ноября был эвакуирован основной состав профессуры. Начальником МПВО был Д.А. Транковский, начальником охраны биофака директор Зоомузея проф. С.С. Туров. Я, как аспирант, должна была уезжать также, но на моих руках оставалось пять стариков, в том числе больные родители мужа, я бы их до Ашхабада не довезла. Меня, благодаря стараниям профессора Г.Г. Абрикосова, зачислили ассистентом, оставив в охране университета в пожарной команде. Поздно вечером 29-го ноября, когда университетский эшелон ещё стоял на путях вокзала, была сброшена бомба у Мехмата, попав в решётку между мехматом и Моховой, повредив здание мехмата и клуба университета. В эту ночь я не дежурила, но когда рано утром возвращалась на дежурство, весь переулок рядом с Зоомузем был усеян осколками стёкол, а окна Зоомузея зияли черными дырами. Внутри здания было тоже много осколков, и стоял туман от поднявшейся пыли, а кое-где лежал и снег (зима была очень морозной и снежной). Окна наскоро забили фанерой.
Ночью мы дежурили на крышах и чердаках, а кто постарше – на лестницах и в аудиториях, днём были заняты на разных работах, в зависимости от надобности и сезона. Летом 1941 года ездили периодически на окраину Москвы рыть укрепления, поздней осенью-зимой разгребали снег, занимались восстановительными работами, часто начальник пожарной команды проводил учения. Всё хуже становилось с продовольствием. Дополнительным пайком к скудному официальному пайку сперва служил стакан разбавленного кофе («бурды») с бутербродом. Позже не стало и этого добавка и пожарники перешли на питание кошками (одна кошка как правило на всю команду из 16-18 человек), из которых варили суп и делали фрикадельки. Кошек дежурный вылавливал в подъездах и безболезненно умерщвлял. Эту операцию обычно производил кто-нибудь из физиологов. Иногда, что было крайне редко, с Волоколамского шоссе члены команды привозили мерзлую конину, и тогда из всех аудиторий Зоомузея доносился благословенный аромат варёного мяса. Было очень холодно в помещениях, согревались, кто как мог. У нас дома комнаты были закрыты, жили на кухне, где была поставлена времянка, но температура часто была около нуля, т.к. топлива не хватало. Казалось, что мозги застывают. Я особенно страдала не от голода, а от недосыпа и холода. Вместе с тем нас всех поддерживало чувство «локтя», большого товарищества, всех сближало общее горе. В общем молодёжь не унывала, а порой и веселилась. Так например, 25-го января, в день учреждения университета, тогда фашистов уже отбросили от Москвы, наша пожарная команда устроила бал-маскарад. Все нарядились в разные маскарадные костюмы, кто что сумел достать или сделать. У Наташи Горчаковской оказались два кимоно и мы были запечатлены на фоторгафии в виде двух японок. Угощением в этот вечер, помимо кошачьих котлет и других «изысканных» явств, был студень из собаки, изготовленный Д.М. Вяжлинским, вином служила «скорпионовка» ( т.е. спирт из-под фиксированных скорпионов). Была музыка, танцы, смех. Молодость брала своё.
В начале войны фашисты бросали на Москву много зажигалок, впоследствии их стало меньше, но больше стало фугасок и осколочных бомб. Как-то вечером мы с Наташей, стоя на чердаке на своём посту, вдруг увидели яркую вспышку и потом услышали грохот. Это сбросили осколочную бомбу в длинную очередь перед диетическим магазином на ул. Горького – было много жертв.
С едой стало легче – помогала картошка, которую мы посадили на окраине Красной Пресни. В августе 1942 г мы вместе с Н. Горчаковской и Г. Развязкиной были командированы комитетом комсомола на уборочную в колхозы под Зарайском в качестве агитаторов. Агитация заключалась в том, что мы вместе со всеми пололи, жали рожь. Часть трудодней я заработала «натурой» – 10 кг. ржи, которую удалось послать почтой и 30 кг. капусты. Это 2 мешка на перевес. Садиться пришлось в переполненный поезд в Зарайске. Я только вскарабкалась на ступеньки, поезд тронулся и мешки потянули меня под поезд. Спас какой-то мужчина, схватившийся за поручни сзади меня, и сильно поранивший сапогами мне лодыжки, но я и мой драгоценный груз уцелели.
С осени жизнь начала входить в свою колею. Начались занятия в университете, их проводили оставшиеся в Москве преподаватели. На нашей кафедре были Ф.А. Лаврехин и я (впоследствии к нам перешла с другой кафедры ст. лаб. О.П. Дешиц), лекции читал проф. В.Н. Беклемишев. Было всего две группы. Первыми моими учениками были Н.А. Перцов и В.А. Свешников, вскоре ушедшие на фронт, а из девушек – Е.А. Турпаева, Л.А. Козяр и др. Начала работать лаборатория экологии проф. В.В. Алпатова, в ней работали О.К. Настюкова-Россолимо и я.
Объектами исследования были вши и постельные клопы, для кормления первых приглашали доноров, но часть платяных вшей вынашивала Ольга Константиновна под своей пышной причёской с целью посмотреть возможность их превращения в головные. «Своих» клопов я кормила на себе.
Летом 1943 года вернулся из Свердловска основной состав сотрудников университета.
члена «пожарной» команды биофака
Письмо от Смирнова Е. 1943 год
директора Зоологического музея в военное время
Работы много. Выгружаем коллекции из подвалов, есть пострадавшие. Делаем опись оставшегося, т.е. опять полный подсчёт всех коллекций. Открываем школьную выставку в верхнем зале. Принимаемся за разборку неразобранных и перепутанных во время сусуматохи групп, раселпдку, инвентаризацию и пр.
Есть намек на продолжение научной работы. 15 сундуков стоит на вокзале и будут возвращены сюда.
Части письма Турова С. 05.01.1942
в этих письмах очень много про музей и его недооцененность в глазах начальства <Сообщение изменено>
Вот еще
В отделе делается следующее:
Захватываем пожарку и в ней делаем хранилище для остеологии,... и части животных
В подвалах недатированные рога, черепа, неразобранные скелеты крупные спирты, охотничий отдел
Продолжаю карточный каталог, доливаю спирты и сейчас составляю и на них карточки и расставляю по своим группам, будем разбирать остеологию (скелеты)
Хочу начать разбор землероек.
Выставили 2 чучела.
Много витрин разбито, поэтому трудно с экспозицией. Боюсь за сохранность. Работа в отделе идёт, и народ едет, а сейчас некоторые (?) коллекции почти недоступны. Лампочек нет, в зале тьма, разбираем со спичками и лучинами, устали от напряжения <Сообщение изменено>
это Архив Гептнера. Последнее письмо от Туровой (я после каждого сообщения подписала от кого, на всякий случай) Кое-де в начале прописано от кого и когда письмо.
Через две недели. Москвичи увидят кадры кинохроники, на которых горят советские деревни, села и города и лежащих у своих изб расстрелянных нацистами женщин и малолетних детей.
Ровно через месяц. Москва переживет первый налет гитлеровской авиации, и воочию, не в кино, увидит изуродованные тела погибших под завалами сограждан, разрушенные и горящие дома.
А пока, в первый день войны, в Москве все примерно так, как в хрестоматийном стихотворении Геннадия Шпаликова "На площадке танцевальной Сорок Первый год": "Ничего, что нету Польши. Но сильна страна. Через месяц – и не больше – кончится война…"
"Интенсивные налеты авиации на Москву начались с 22 июля. Всего на территории Университета было обезврежено и погашено 272 зажигательных бомбы, и лишь однажды произошло незначительное загорание от термитно-зажигательной бомбы.
...
Ночью 29 октября на территорию внешнего двора так называемого "нового здания" (сейчас здание факультета журналистики) была сброшена крупная фугасная бомба. Взрывной волной был опрокинут памятник Ломоносову, смещен купол на здании библиотеки, сорваны двери, подняты полы и забиты все окна в учебном корпусе. Сильно пострадало и "старое" здание. Всего в Университете было выбито около 3-х тысяч оконных рам. Взрывной волной был контужен студент биофака... После взрыва вскоре вышла из строя вся отопительная система МГУ."
Из воспоминаний профессора Д.А. Транковского, начальника службы управления МПВО МГУ в годы войны
Студенты Московского университета были мобилизованы копать окопы на ближних подступах к Москве. Запомнилась песня того времени, которую распевал мой брат-студент:
Стой под скатами, рой лопатами,
Нам работа дружная сродни,
Песню грянучи, мать помянучи,
Трудовую честь не урони.
Пусть в желудке вакуум и в мозолях руки,
Мелкий, мерзкий дождик нас сечет,
Наши зубы точены о гранит науки,
А посля гранита - глина нипочём.
Из текста песни понятно, что настроение у студентов, копавших окопы, было бодрое, все твердо знали, что мы победим и весьма скоро. Однако немцы приблизились к Москве совсем близко. Пошли слухи, что на некоторых направлениях дорога на Москву вообще открыта.
Началась паника среди населения. Была объявлена всеобщая эвакуация учреждений и населения. Многие начальники рвали партийные билеты и на любом транспорте пытались покинуть Москву. Не избежали паники и многие преподаватели Московского университета. 16 октября, когда немцы особенно близко подошли к Москве, стало известно, что ряд руководящих работников университета срочно покинули город, т.е., попросту говоря, бежали. Было назначено новое руководство МГУ - ректором его стал историк профессор И. С. Галкин, а исполняющим обязанности ректора эвакуируемой (основной) части МГУ был назначен мой отец - профессор биологического факультета Степан Иванович Кулаев. Он же возглавил руководство эвакуацией МГУ в Ашхабад.
Небольшая часть студентов и профессуры по той или иной причине осталась в Москве, но основной коллектив уехал в эвакуацию. Сборы были недолгими. Продолжались начавшиеся 22 июля бомбежки основных промышленных и общественно значимых объектов Москвы; именно в октябре одна из фугасных бомб попала в главное здание МГУ на Моховой, но благодаря слаженной работе пожарных команд, составленных из профессоров и студентов МГУ, удалось быстро потушить пожар и восстановить аудитории для учебного процесса. Наша семья жила, ожидая отъезда в эвакуацию, на папиной кафедре (гистологии и эмбриологии), расположившейся в здании Зоомузея, так как наш дом был поврежден. Меня старший брат, который был членом пожарной команды, возглавляемой профессором-ботаником Даниилом Александровичем Транковским, иногда брал с собой на крышу университета тушить зажигательные бомбы. Падающие на крышу "зажигалки" мы сразу же хватали щипцами и тушили их, помещая в ящики с песком или ведра с водой.
Хотя здания университета на Моховой были хорошо замаскированы, все же достаточное количество зажигательных, а иногда и фугасных бомб падало на крыши университетских зданий. Во время налета фашистской авиации все небо над Москвой бороздили лучи мощных прожекторов, выискивающих вражеские бомбардировщики. Когда прожектора обнаруживали вражеский самолет, его сразу же освещали другие прожектора и начиналась пальба наших зенитных орудий, пытавшихся сбить попавшийся немецкий бомбардировщик. Иногда это удавалось. Все это представляло захватывающее зрелище, хотя мне и было достаточно жутковато.

(Из Отчета о деятельности Зоологического Музея за 1944 год).
(Из Отчета о деятельности Зоологического Музея за 1943 год).
изучению животного мира пустыни Каракум, в январе 1945 г. проф. Дементьев провел,
совместно с докторантом Рустамовым, аспирантом Ашхабадского Педагогического
Института Арутюновой и препаратором Картуновым, экскурсию в Каракумы для
изучения зимнего аспекта фауны пустыни. В апреле–мае по той же теме доцент Птушенко
вместе с докторантом Рустамовым и техническим персоналом совершил по маршруту
Ашхабад — Казанджик —Узбой — Хивинский оазис — Ашхабад первое, сделанное
зоологами пересечение Каракумов с целью изучения весеннего аспекта фауны».
(Из Отчета о деятельности Зоологического Музея за 1945 год).




(Из Отчета о деятельности Зоологического Музея за 1942 год).
<…> На другой день пошла в университет. В вестибюле обычный спокойный полумрак.
<…> Я опять засела в своей «клетке» на хорах зоологического музея.»
Из воспоминаний В.И. Осмоловской «Ясной, солнечной ночью... О жизни двух москвичек в тундре Ямала в годы войны».




С 15 октября 1943 по 1 января 1944 музей был закрыт для посетителей. В это время проводился ремонт стеклянного потолка, разрушенного бомбой 1941 года. Стекла были заменены досками. Это позволило повысить температуру в залах, которая зимой 1941-1942 гг опускалась ниже нуля.
Нижний зал функционировал в качестве хранилища коллекций.
Проводился ремонт пострадавших от взрыва помещений музея: восстанавливали витрины, мебель, освещение, вставляли оконные рамы и стекла.
В 1943 проводились обширные авральные работы, как музейные, так и общеуниверситетские – прибытие коллекций из Свердловска, перевозка с вокзала, разбор, переноска кита в подвал, инвентаризация, мобилизация на два месяца на прививочную кампанию, снятие с работы ректором для выполняения обязанностей МПВО...
С лета 1945 штаты музея восстановлены практически в полном объеме.



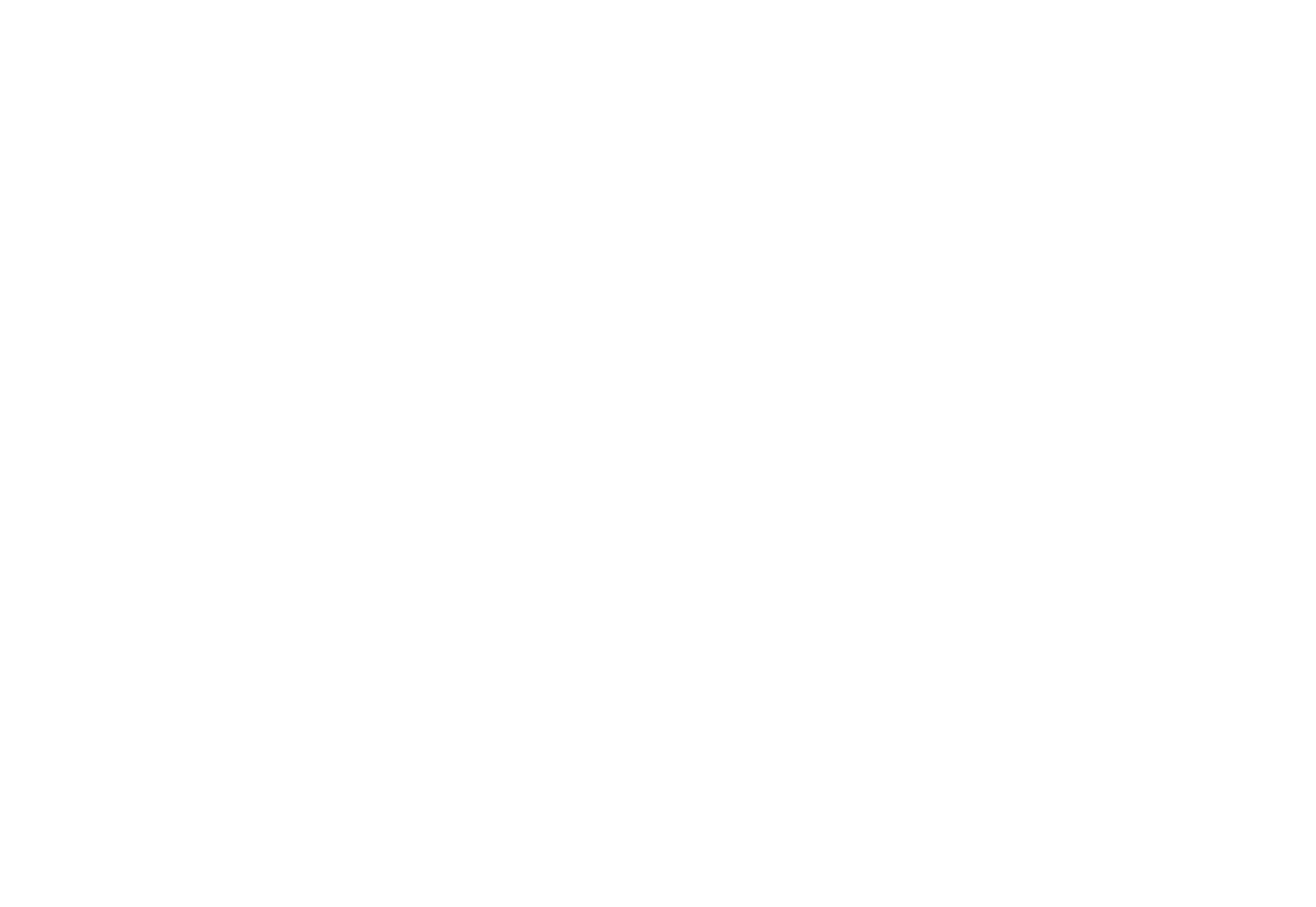
Осенью 1941 г., когда немецко-фашистские войска подходили к Москве, комендант города издал распоряжение, в котором приказывалось в целях недопущения использования враждебными элементами голубей, находящихся у частных лиц, в трёхдневный срок сдать их в управление милиции по адресу: ул. Петровка, д. 38. Лица, не сдавшие голубей, привлекались к ответственности по законам военного времени.



Распоряжением германских оккупационных властей все голуби как нелегальное средство связи подлежали изъятию у населения и уничтожению. За укрывательство птиц немцы карали смертной казнью, так как боялись, что голубей будут использовать в целях партизанской войны.

В отчете содержится упоминание о двух рукописях Г.П. Дементьева специального содержания для Высшей технической школы РККА.
Дементьев известен, как один из лучших специалистов СССР по хищным птицам, а в 1945 году опубликована его работа: «Значение ястреба-тетеревятника в почтовом голубеводстве»... Георгий Петрович занимался проблемами безопасности дополнительных способов связи (голубиная почта) для нужд РККА в начале войны.
Исследования по борьбе с педикулезом и тифом
В 1942 году к открытию музея подготовлена отдельная выставка «Вошь и ее биология».
«Объектами исследования были вши и постельные клопы. Для кормления первых приглашали доноров, но часть платяных вшей вынашивала Ольга Константиновна Россолимо под своей пышной причёской с целью посмотреть возможность их превращения в головные. «Своих» клопов я кормила на себе».
Из воспоминаний Н.Соколовой



В 1943 году опубликовала работу «Съедобные беспозвоночные Белого моря», Архангельск.



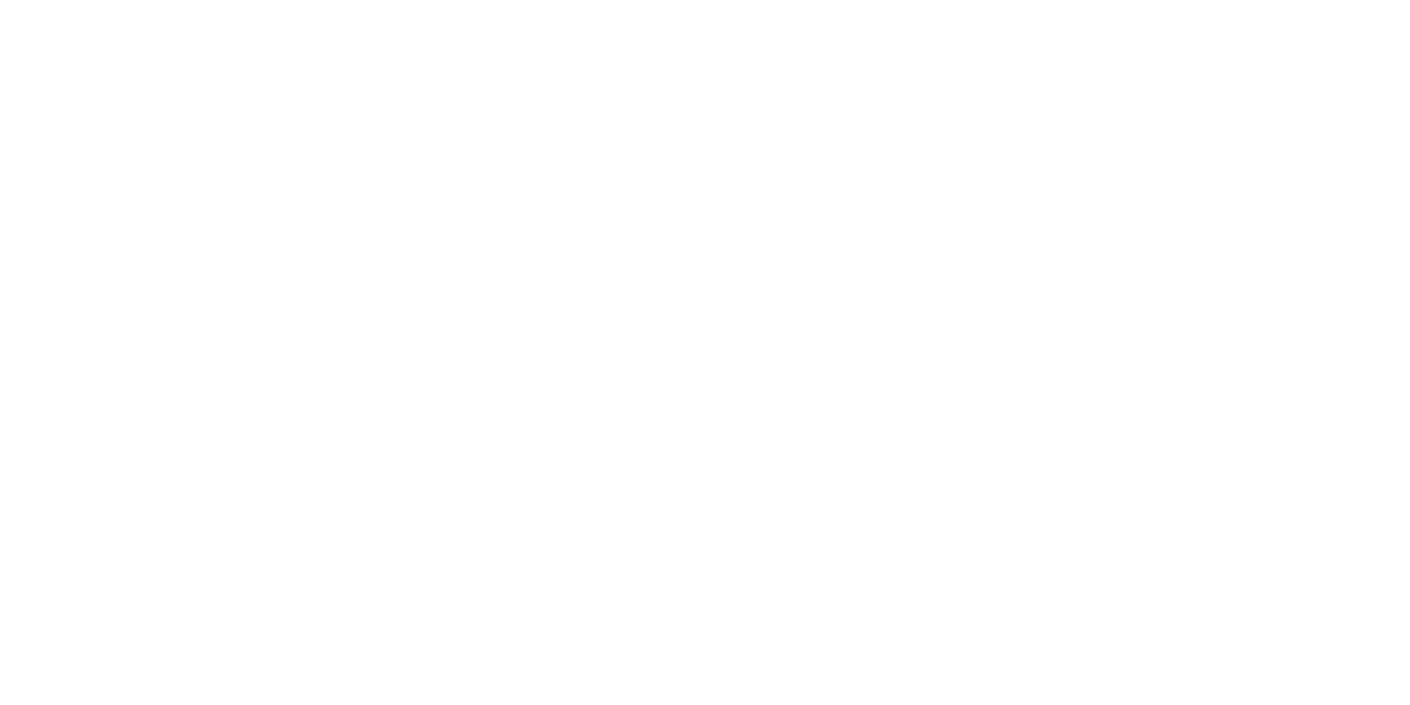
– Грызуны – распространители эпизоотий и заразных болезней
– Насекомые – вредители древесины (Н.Н. Плавильщиков)
– Научно-просветительская деятельность сотрудников: никто тогда не слышал про популярные ныне подкасты, но еще в 1945 году сотрудник музея Н.Н. Плавильщиков записал на радио более 15 передач для детей по своим книжкам «Дракон Ольм» и «В морской глубине». Выступали на радио с лекциями и другие сотрудники музея: Спангенберг, Гладков, Дементьев.
– Работы по заданию Военно-воздушной бригады РККА (Судиловская А.М.)
– Главное санитарное управление Красной Армии – «Комары и мухи, распространители и переносчики болезней».

- 210экспонатов реставрировано в таксидермической мастерской
- 16344человека посетило музей в 1945г.
- 21527экземпляров поступило в научные коллекции
- 180научных работ было выполнено сотрудниками музея в 1945 году