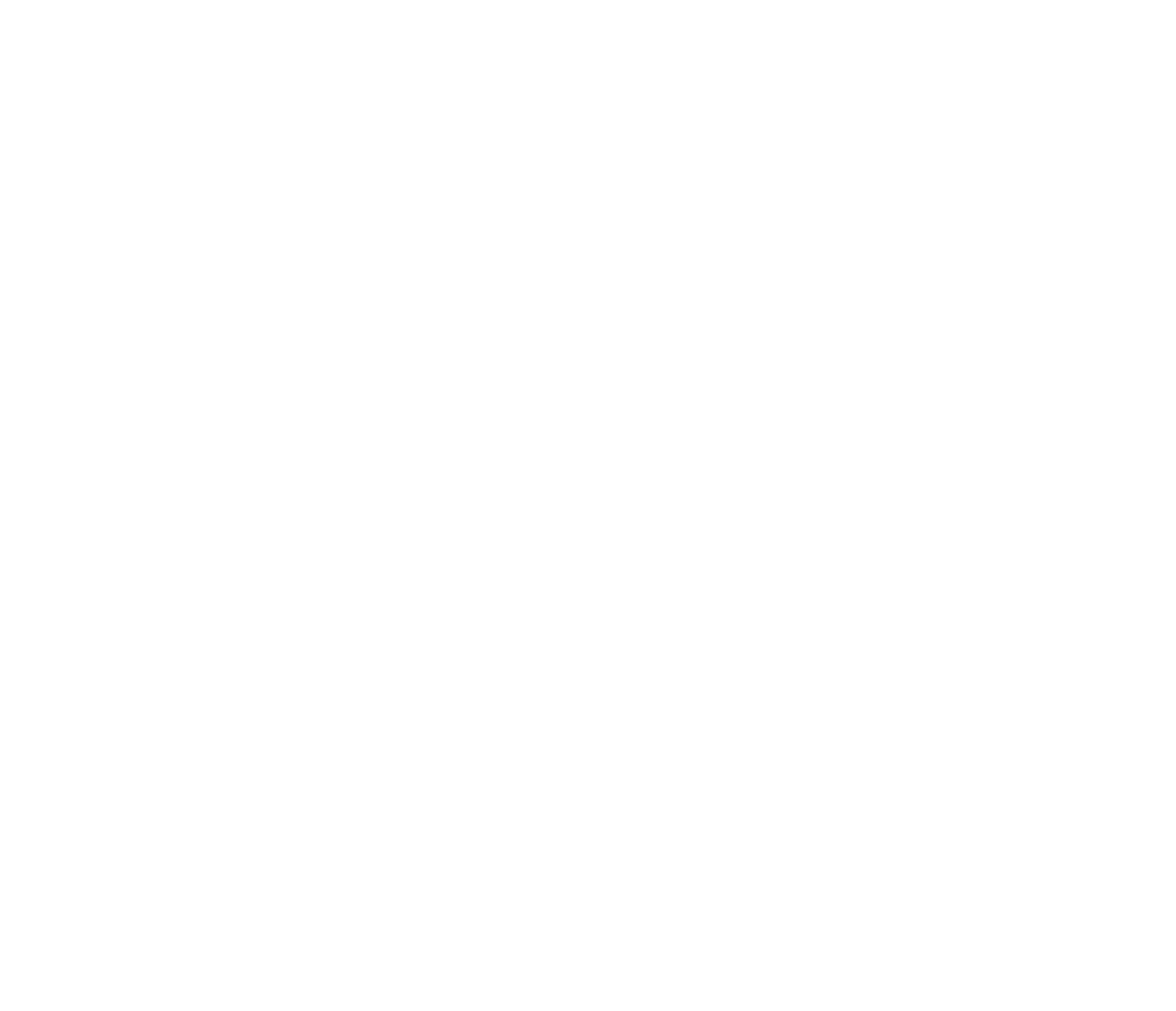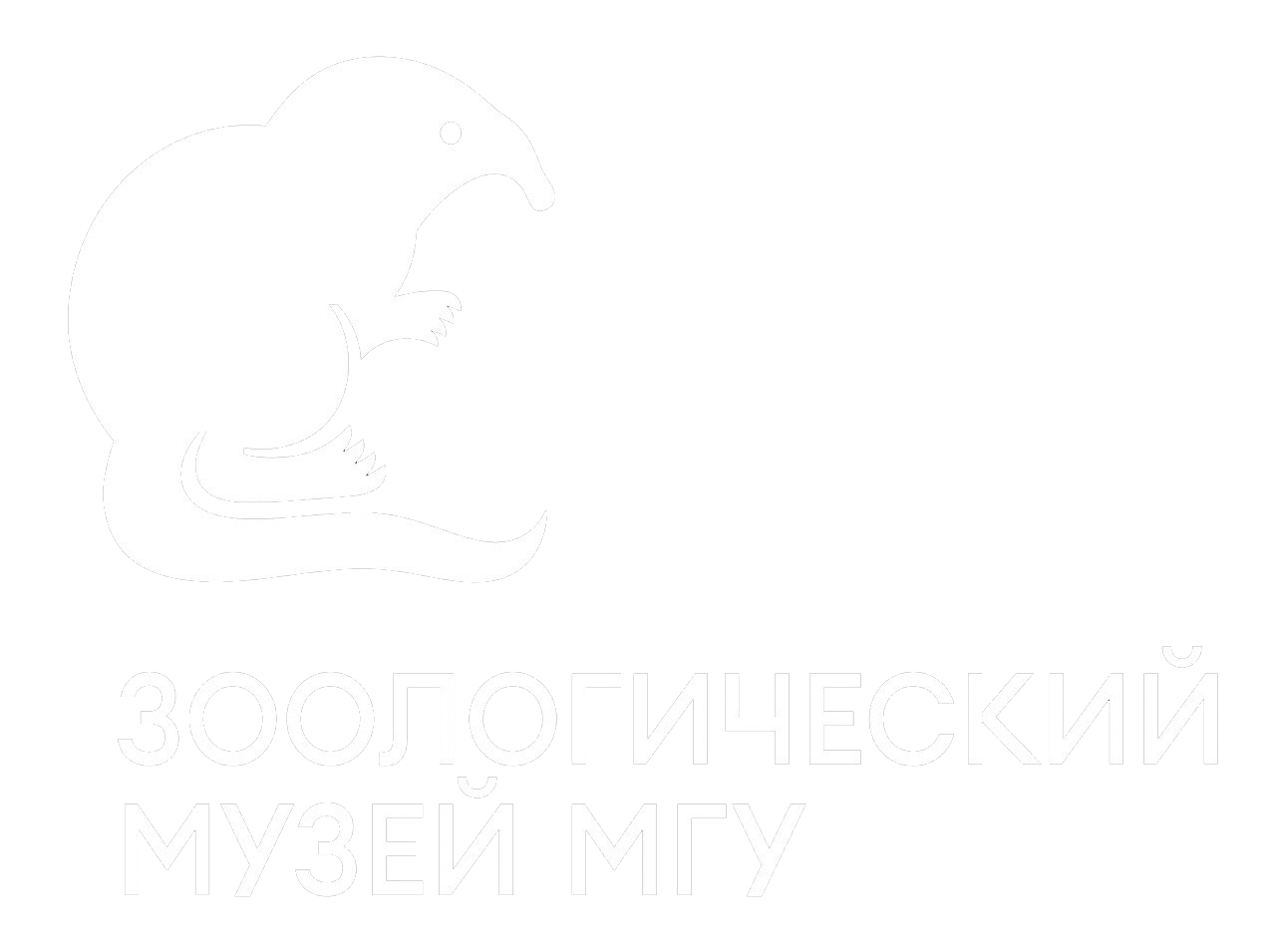Турция. Лира. Стрекоза
Каллиграфическая точность смыслов и выверенная лаконичность очертаний – это и про традицию слова, и про традицию живописи, и про традицию гравировки монет
“
Над волной ручья
Ловит, ловит стрекоза
Собственную тень
О мой ловец стрекоз!
Куда в неведомую даль
Ты нынче забежал?
Японская поэтесса Фукуда Тиё-ни
Ловит, ловит стрекоза
Собственную тень
О мой ловец стрекоз!
Куда в неведомую даль
Ты нынче забежал?
Японская поэтесса Фукуда Тиё-ни
Долго выбирал, какое их этих двух японских трехстиший оставить в качестве эпиграфа, а потом решил, да пусть оба остаются! Это же подкаст, от него не убудет.
Первое поразило и подкупило своей философией «vanitas» – как здорово всего в трех строчках, 17 слогах (5-7-5), 8 словах, 53 знаках Фукуда Тиё передала ощущение бренности бытия, тщетности человеческих усилий, скоротечности жизни, неизбежности смерти…
Не так ли и мы, думал я, глядя на стрекозу на турецкой лире – суетимся в круговерти событий малозначащих, в бесконечной мышиной возне вязких бессмысленных разговоров и пустячных дел, в погоне за собственной тенью, и вдруг на пороге старости оказываемся один на один с вопросом – и это всё? Всё пронеслось, как тень стрекозы над прудом?
Первое поразило и подкупило своей философией «vanitas» – как здорово всего в трех строчках, 17 слогах (5-7-5), 8 словах, 53 знаках Фукуда Тиё передала ощущение бренности бытия, тщетности человеческих усилий, скоротечности жизни, неизбежности смерти…
Не так ли и мы, думал я, глядя на стрекозу на турецкой лире – суетимся в круговерти событий малозначащих, в бесконечной мышиной возне вязких бессмысленных разговоров и пустячных дел, в погоне за собственной тенью, и вдруг на пороге старости оказываемся один на один с вопросом – и это всё? Всё пронеслось, как тень стрекозы над прудом?
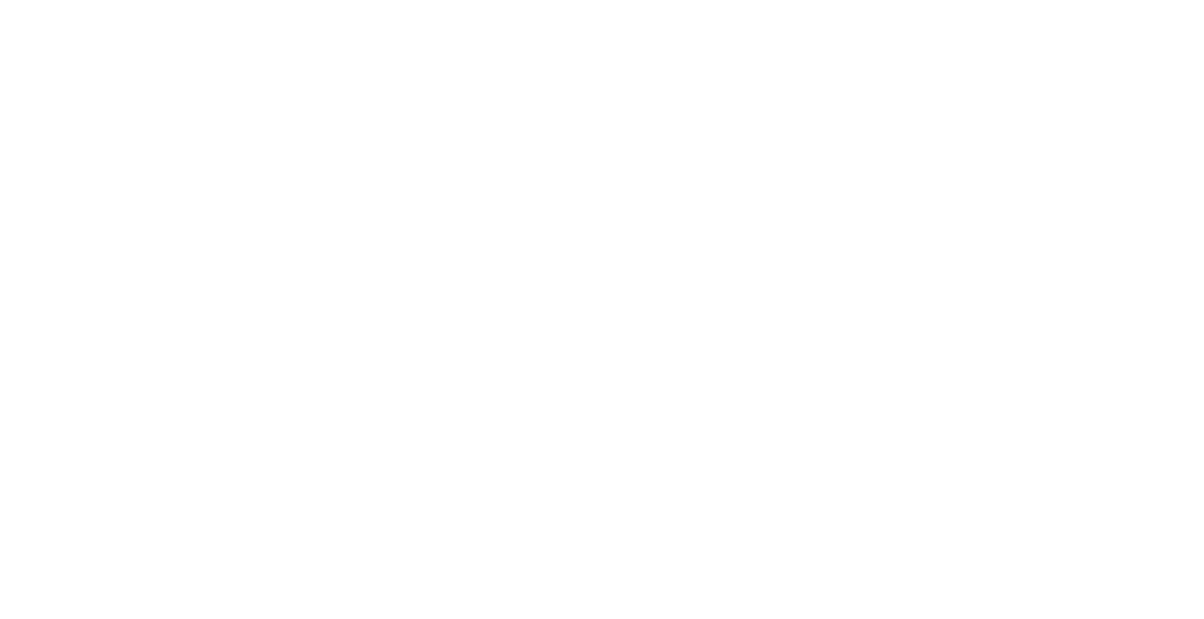
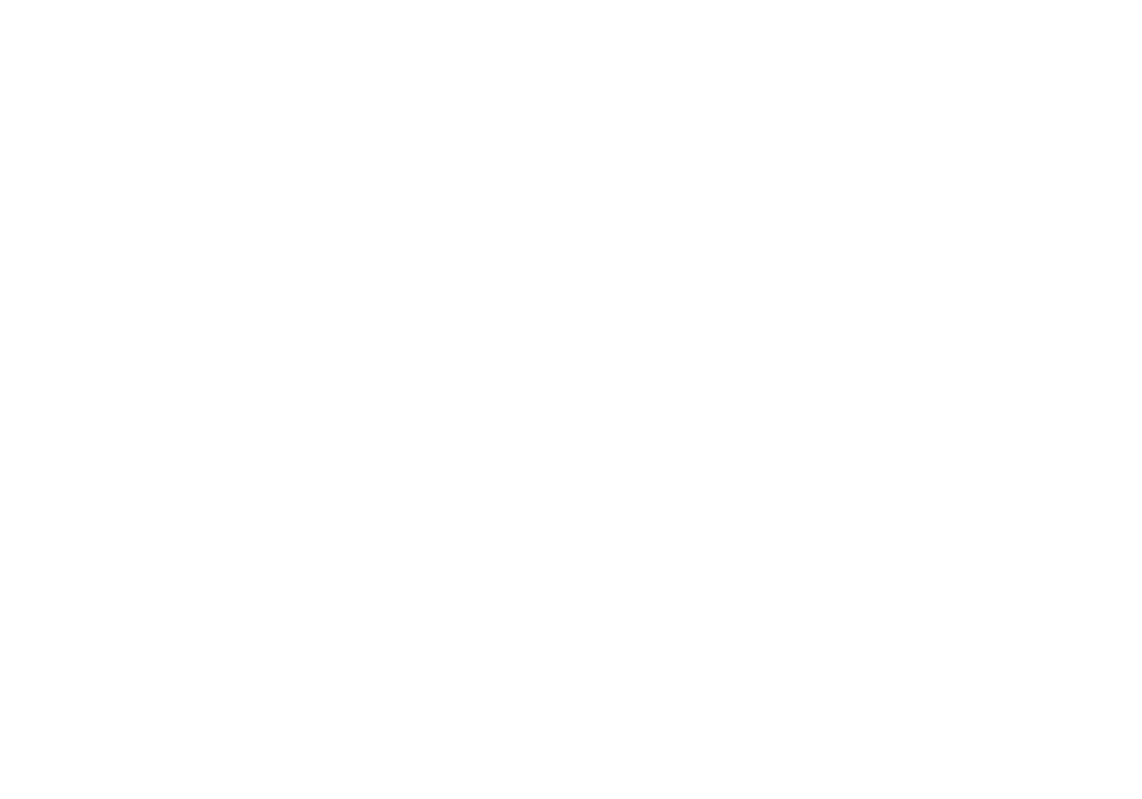
Второе трехстишье эмоционально окрашено совсем по-другому. Диалог с тем, кого уже нет. Вопрос без ответа, в пустоту. И ответа с той стороны уже не будет. Здесь – точно. Но что осталось, кроме вопросов без ответов?
Воспоминания. Как твой смех звенел у реки, на цветущем пахучем лугу, детские ножки топтали траву в погоне за синими стрекозами. Корова по утрам натужно и хрипло мычала у далекого жилья, заполошно лаяли ночью собаки в деревне. Неистово стрекотали кузнечики в смородине. Наползал легкий туман с луга. Но всего этого уже нет, как и самого ловца. А тот, кто хранит эти воспоминания, уже и сам как тень стрекозы над прудом.
Каллиграфическая точность смыслов и выверенная лаконичность очертаний формы – это и про традицию слова и про традицию живописи. Акварельная недосказанность графичности. Прозрачная легкость суггестивности и чистой созерцательности. Недоступная и непонятная европейцам японская утонченность…
Воспоминания. Как твой смех звенел у реки, на цветущем пахучем лугу, детские ножки топтали траву в погоне за синими стрекозами. Корова по утрам натужно и хрипло мычала у далекого жилья, заполошно лаяли ночью собаки в деревне. Неистово стрекотали кузнечики в смородине. Наползал легкий туман с луга. Но всего этого уже нет, как и самого ловца. А тот, кто хранит эти воспоминания, уже и сам как тень стрекозы над прудом.
Каллиграфическая точность смыслов и выверенная лаконичность очертаний формы – это и про традицию слова и про традицию живописи. Акварельная недосказанность графичности. Прозрачная легкость суггестивности и чистой созерцательности. Недоступная и непонятная европейцам японская утонченность…
У моего деда был альбом с японскими рисунками тушью, оригиналами, а не принтами. Мальчишкой я любил открывать белые, полированные, прохладные на ощупь костяные застежечки тяжелой зеленой суконной папки и перебирать эти плотные листы из рыхлой и шершавой самодельной бумаги с неровными краями, разглядывать под старинной лупой с погнутым латунным ободком и эбонитовой ручкой, насекомых и птиц, населявших страницы с изысканными ветвями дикой сливы, стволами бамбука, острыми стеблями рогоза, синими цветами ириса, желтыми хризантемами.
Была там и пара стрекоз, выписанных с четкостью и точностью рисунка из пособия по анатомии беспозвоночных животных. Насекомые с прозрачными крыльями присели на мгновение в беспокойном полете над прудом с ряской на засохший край листа кубышки.
Была там и пара стрекоз, выписанных с четкостью и точностью рисунка из пособия по анатомии беспозвоночных животных. Насекомые с прозрачными крыльями присели на мгновение в беспокойном полете над прудом с ряской на засохший край листа кубышки.
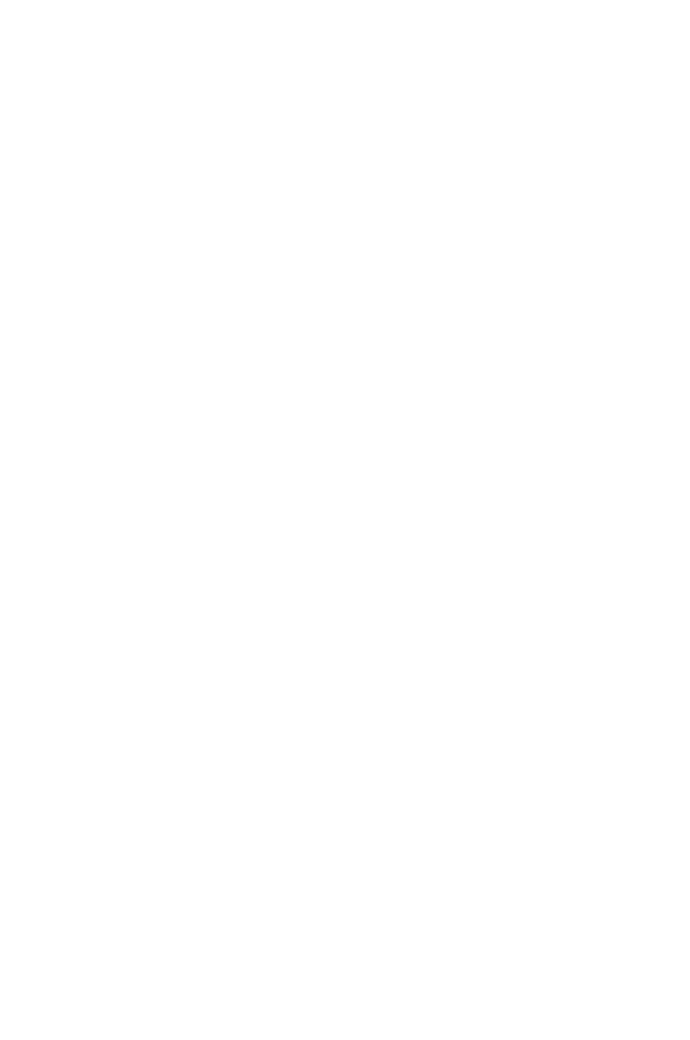
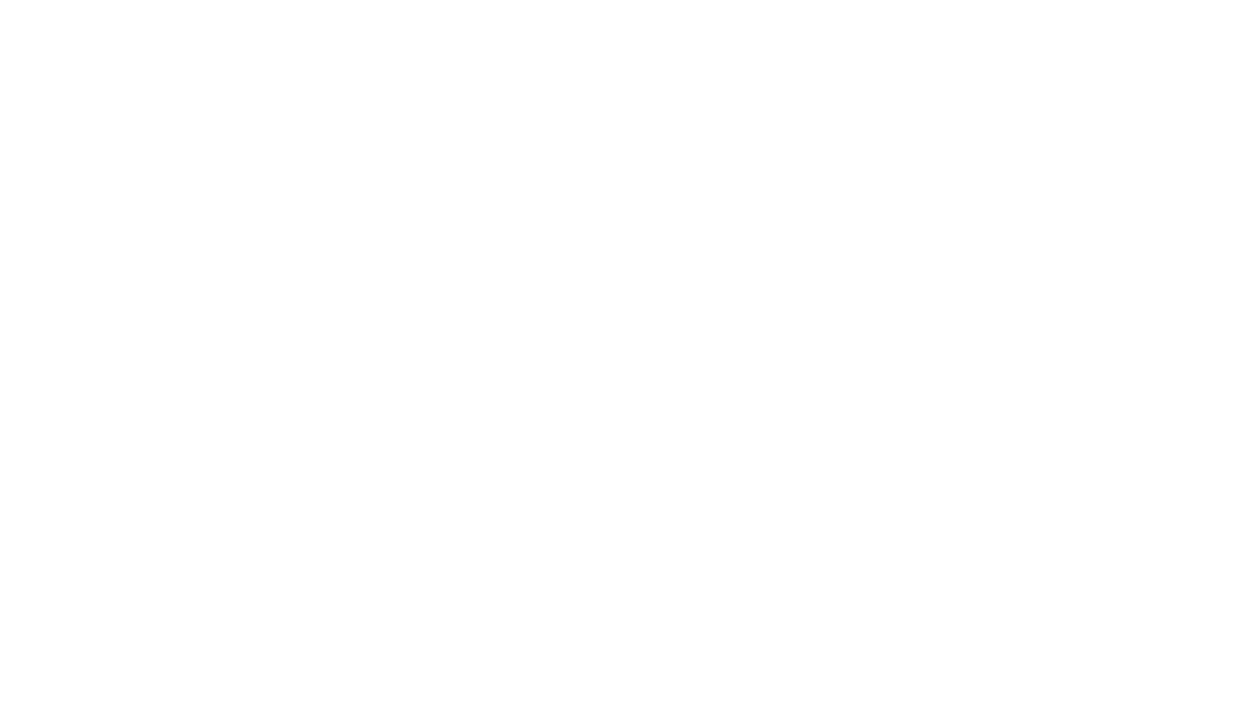
На монете трудно изобразить цвета, их тут нет и быть не может. Граверу доступны только линии и объём, игра света и тени, штрихов и линий на рельефе. В этом его искусство схоже с мастерством суйбокуга – рисунка с использованием только лишь черной туши. В этом – особая философия. Использование туши придавало суйбокуга видовые черты изысканной литературы. Европейцы, все вот эти импрессионисты и постмодернисты, этого бы не поняли никогда: «Пять цветов притупляют зрение», «Полнота красок сама по себе не создает цельноистинное впечатление жизни», «Тот достиг своей цели, кто сумел написать картину так, чтобы в ней чувствовались все пять цветов, при помощи одной лишь чёрной туши. Но если сознание будет подвержено лишь пяти краскам, то тогда образы вещей будут неверными», «Среди путей живописца тушь простая превыше всего»… Так записано в древнем философском трактате о пути – дао – живописца тушью.
Монетные граверы поддержали бы эту мудрость: гравировка, также как и живопись в стиле суйбокуга – искусство пустоты. Сила его заключается в пустом пространстве, которое побуждает зрителя проявлять собственную фантазию и желание поскорее заполнить белизну листа своими собственными образами.
Одухотворенный ритм живого движения, выраженный виртуозной игрой света и тени, насыщенностью и гармоничностью – вот в чем заключается суть этой живописи и суть гравировки.
Монетные граверы поддержали бы эту мудрость: гравировка, также как и живопись в стиле суйбокуга – искусство пустоты. Сила его заключается в пустом пространстве, которое побуждает зрителя проявлять собственную фантазию и желание поскорее заполнить белизну листа своими собственными образами.
Одухотворенный ритм живого движения, выраженный виртуозной игрой света и тени, насыщенностью и гармоничностью – вот в чем заключается суть этой живописи и суть гравировки.
Я долго ломал голову над тем, как появилось совершенно японское по технике и философии скрытых смыслов изображение стрекозы на турецкой монете?
И так ничего и не придумал.
Может быть у вас получится?
И так ничего и не придумал.
Может быть у вас получится?