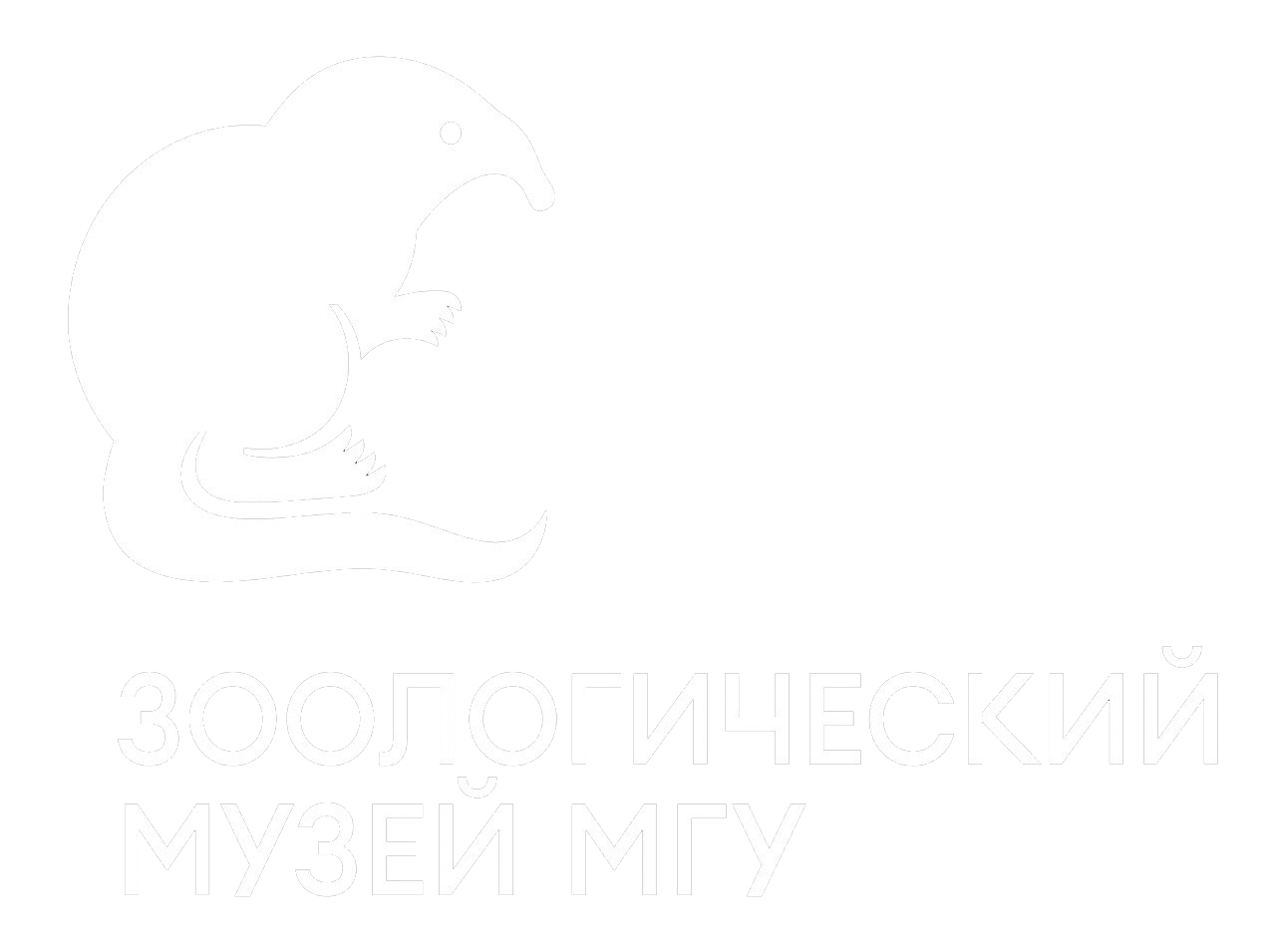Ирландия. Пенс. Заяц
Разобраться с зайцем на монете нам помогут зоология и кинематограф…
Ну казалось бы – что такое заяц? Невзрачный зверь, прямо скажем, несерьезный какой-то, легкомысленный даже. Кого позорно называют «зайцами»? Безбилетников в электричках, которые по грязным вагонам от контролеров бегают. Зайцы и косые, и трусливые, заячья душа..., лисы их притесняют, охотники силки ставят, да вообще, все, кому не лень, прихватить зайчатину норовят, всех зайцы боятся, и волка и сову.
Вот то ли дело леопард, носорог, или там, буйвол, хотя бы лось. Или орел на худой конец, о двух головах. Звери и птицы могучие, сильные, ловкие, или грациозные и величественные, по крайней мере, устрашающие. Таких вот не стыдно на герб, или скажем, на монету в качестве средства запугивания соседей поместить. Но заяц? Почему гордая и свободная Ирландия вдруг зайца на монете решила изобразить, в чём тут секрет, в чём тут смысл, в чём подвох?
Нам помогут зоология и кинематограф…
Вот то ли дело леопард, носорог, или там, буйвол, хотя бы лось. Или орел на худой конец, о двух головах. Звери и птицы могучие, сильные, ловкие, или грациозные и величественные, по крайней мере, устрашающие. Таких вот не стыдно на герб, или скажем, на монету в качестве средства запугивания соседей поместить. Но заяц? Почему гордая и свободная Ирландия вдруг зайца на монете решила изобразить, в чём тут секрет, в чём тут смысл, в чём подвох?
Нам помогут зоология и кинематограф…
“
А нам всё равно, а нам всё равно,
Пусть боимся мы волка и сову.
Дело есть у нас — в самый жуткий час
Мы волшебную косим трын-траву.
Популярный шансон 70-х годов прошлого века из кинофильма «Бриллиантовая рука»
Пусть боимся мы волка и сову.
Дело есть у нас — в самый жуткий час
Мы волшебную косим трын-траву.
Популярный шансон 70-х годов прошлого века из кинофильма «Бриллиантовая рука»
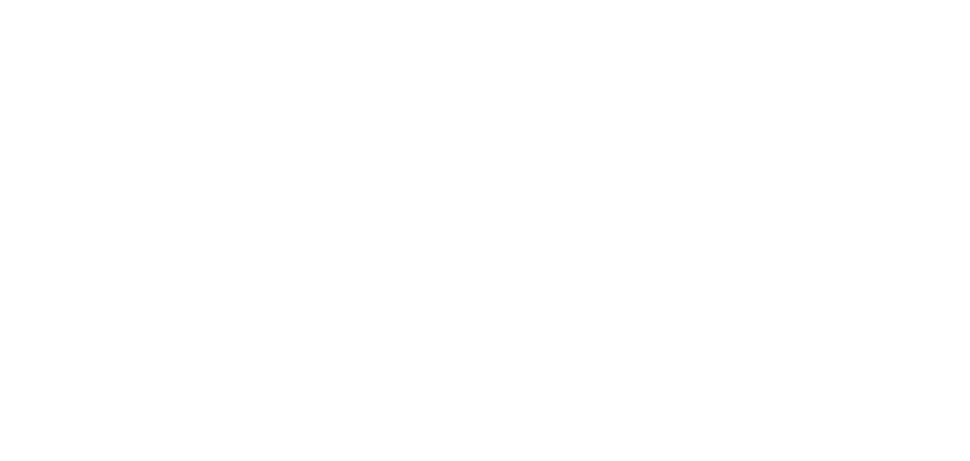
Настороженный заяц на монете три пенса
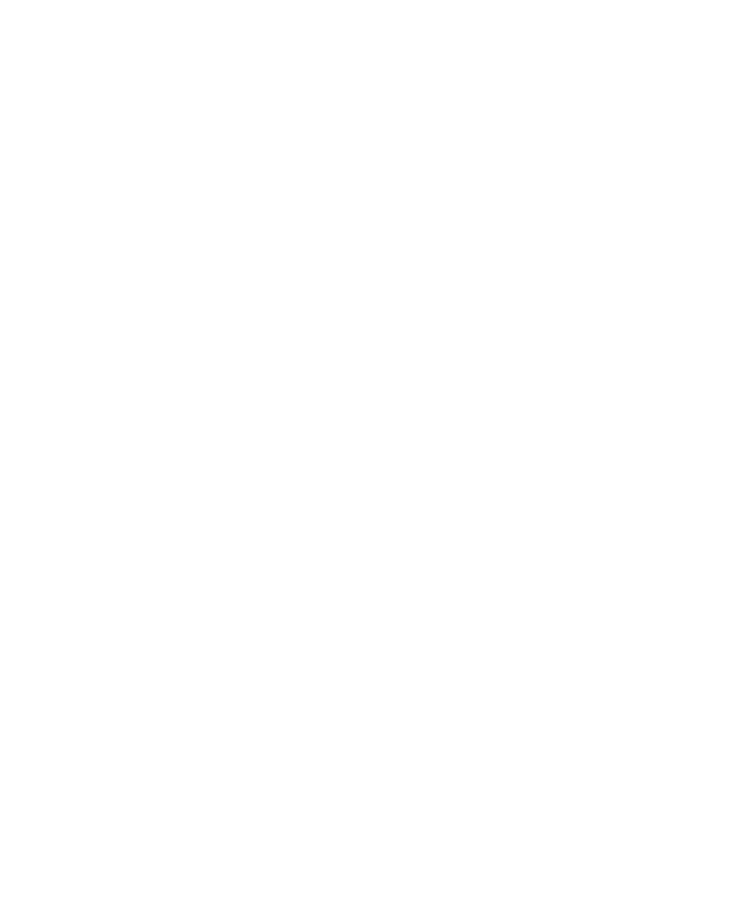
Настоящий заяц — это Lepus Terminator — одна из самых живучих тварей в лесу.
Ирландия свободолюбивая, но маленькая. А маленьких всяк может обидеть, что лев, что орел. Так и норовит свои когти запустить в мягкую шкурку и нежную кожицу соседей. Но вот если оценивать с точки зрения эволюционного успеха. Все вот эти большие дядьки – львы-леопарды, крокодилы-бегемоты, обезьяны-кашалоты. Вот где они, собственно? Вымирают, сердечные… А зайцу всё трын-трава – от тайги до британских морей, от Атлантики до Тихого океана на всех континентах, кроме Антарктиды. Благодаря человеку, который, видимо, решил, что миру не хватает пушистости, зайцы расселяются еще дальше – в Аргентину, Австралию и Новую Зеландию. «Караул! – кричат волки – Зайцы захватили эту планету!»
Особенный талант зайцев — это искусство бесить дачников. Посадил осенью яблоневый сад? Ямы копал, навоз возил, посадочный материал в питомнике выбирал… Поздравляем! Теперь это шведский стол для ушастого гурмана. Приезжаешь весной на участок — а там уже всё зайцами истоптано: помёт, погрызенные стволы, и довольная морда шевелит усами где-то в соседних кустах: «Чё, братан, не нравится? Попробуй меня поймать! Тут мы, зайцы, хозяева!». Настоящий заяц — это Lepus Terminator — одна из самых живучих тварей в лесу.
Особенный талант зайцев — это искусство бесить дачников. Посадил осенью яблоневый сад? Ямы копал, навоз возил, посадочный материал в питомнике выбирал… Поздравляем! Теперь это шведский стол для ушастого гурмана. Приезжаешь весной на участок — а там уже всё зайцами истоптано: помёт, погрызенные стволы, и довольная морда шевелит усами где-то в соседних кустах: «Чё, братан, не нравится? Попробуй меня поймать! Тут мы, зайцы, хозяева!». Настоящий заяц — это Lepus Terminator — одна из самых живучих тварей в лесу.
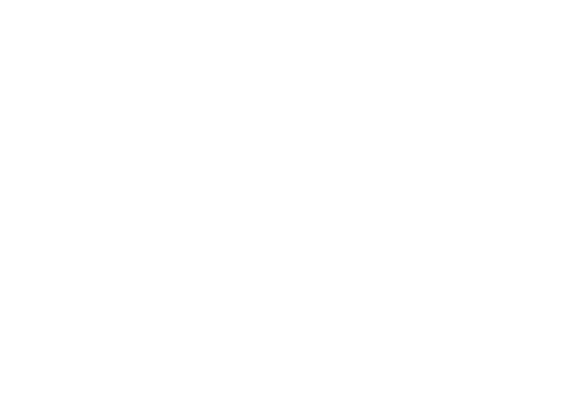
Человек? Ха, очередной двуногий с ружжом, который через пять минут заблудится в трех сугробах, распутывая наши петли, двойки, тройки, сгоны, скидки, смётки.
Мороз? Пф-ф-ф, арктическому зайцу только разминка.
Волки? Скучная беготня для зайца-русака.
Лиса? Вообще легко…
Скрытность? Пожалуйста! Пока вы пялитесь в те кусты, в которых исчез заяц, он уже трижды обежал вокруг и сидит под сосной за вашей спиной, уши прижал — вуаля, «Найди меня, если сможешь!» — его девиз. А если и найдёте, заяц ка-а-к выскочит на вас, да ка-а-к… побежит от вас! Со скоростью до 70 километров в час.
Мороз? Пф-ф-ф, арктическому зайцу только разминка.
Волки? Скучная беготня для зайца-русака.
Лиса? Вообще легко…
Скрытность? Пожалуйста! Пока вы пялитесь в те кусты, в которых исчез заяц, он уже трижды обежал вокруг и сидит под сосной за вашей спиной, уши прижал — вуаля, «Найди меня, если сможешь!» — его девиз. А если и найдёте, заяц ка-а-к выскочит на вас, да ка-а-к… побежит от вас! Со скоростью до 70 километров в час.
«Караул! – кричат волки – Зайцы захватили эту планету!»
Одиночество? О, да! Заяц — задумчивый интроверт. Кооперируются они только ради одного — чтобы продолжить род, а потом снова: «Прощай, дорогая, я ушёл грызть кору в соседний дачный поселок.»
«Безумный мартовский заяц» – это не романтика, а чистой воды беспредел с ушами. Самки не томно вздыхают — они лупят назойливых кавалеров лапами (а те лупят друг друга), будто отбивают котлеты для воскресного семейного обеда с тещей и свекровью одновременно. Возможно, проверяют – кто выживет, тот и годится в продолжатели рода ушастых и косых терминаторов. Так и закаляется заячий род в суровых битвах естественного отбора…
«Безумный мартовский заяц» – это не романтика, а чистой воды беспредел с ушами. Самки не томно вздыхают — они лупят назойливых кавалеров лапами (а те лупят друг друга), будто отбивают котлеты для воскресного семейного обеда с тещей и свекровью одновременно. Возможно, проверяют – кто выживет, тот и годится в продолжатели рода ушастых и косых терминаторов. Так и закаляется заячий род в суровых битвах естественного отбора…
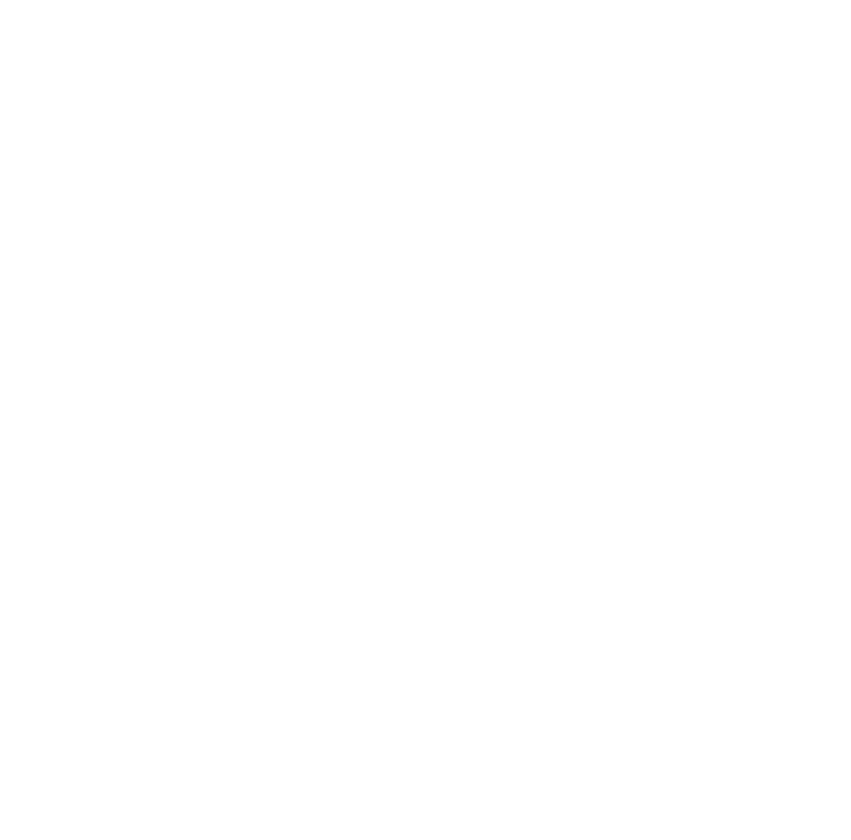
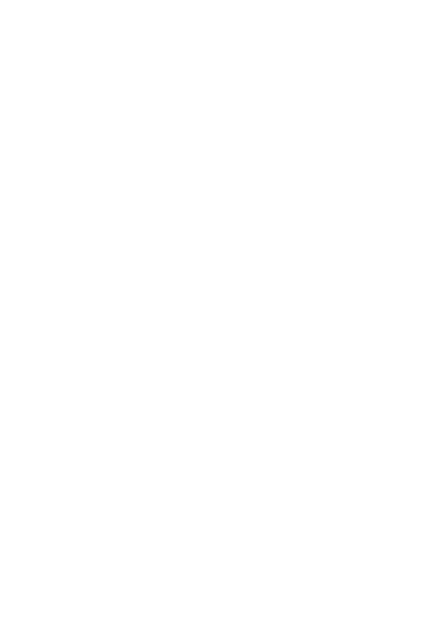
А если таки попался, и зайца настигли то ли волк, то ли беркут, то ли рысь (лиса, кстати, вообще редко зайцев ловит, вопреки мнению сказок), это еще не финал истории. Заяц будет бороться до конца – перевернется в воздухе и ка-а-ак даст по морде своими здоровенными, натренированными в постоянном беге от опасностей, задними лапами с приличными такими когтями. Может убить, вообще-то. Во всяком случае, покалечить, глаз выбить, например. Попробуй, выживи в тайге без глаза. Может, лучше ну его, ушастого, пусть грызет кору дачников дальше? Заяц – вовсе не легкая добыча для хищника, а сильная, ловкая и травмоопасная зверюга.
Материнство? Тут зайцы переплюнули даже самых занятых бизнес-леди. Родила — покормила пару раз — слиняла. Ну то есть не слиняла, линька дважды в год со сменой цвета шубы – это само собой, а смылась. Слилась, короче. «Зумеры, вы тут как-нибудь сами держитесь, у меня дедлайн по проекту!» Через месяц зайчата уже самостоятельные бойцы, а мамаша тем временем уже готовит новую партию на выход. Эволюция наградила зайцев не только скоростью, но и талантом к многозадачности.
Материнство? Тут зайцы переплюнули даже самых занятых бизнес-леди. Родила — покормила пару раз — слиняла. Ну то есть не слиняла, линька дважды в год со сменой цвета шубы – это само собой, а смылась. Слилась, короче. «Зумеры, вы тут как-нибудь сами держитесь, у меня дедлайн по проекту!» Через месяц зайчата уже самостоятельные бойцы, а мамаша тем временем уже готовит новую партию на выход. Эволюция наградила зайцев не только скоростью, но и талантом к многозадачности.
“
Заяц — это такая Ирландия животного мира: маленький, но настырный, себе на уме, упорный, успешно ускользающий от верховных хищников. Заяц хитер, вынослив, а главное – хорошо приспосабливается. Как маленькая Ирландия рядом со своим грозным, но неповоротливым соседом – Британским львом.
И вот смотрю я на этого замершего в настороженной позе, прижавшего уши к спине зайца на легкой никелевой монетке крошечной страны и почему-то вспоминается мне советский фильм с Юрием Никулиным в главной роли – «Бриллиантовая рука». Почему я его вспомнил…? А! Там же есть песенка про зайцев, которая по сценарию называется «Песня простого советского человека». И хотя она про далекую эсэсэсэровскую действительность, но зачем-то этот ресторанный мотивчик не идет из головы.
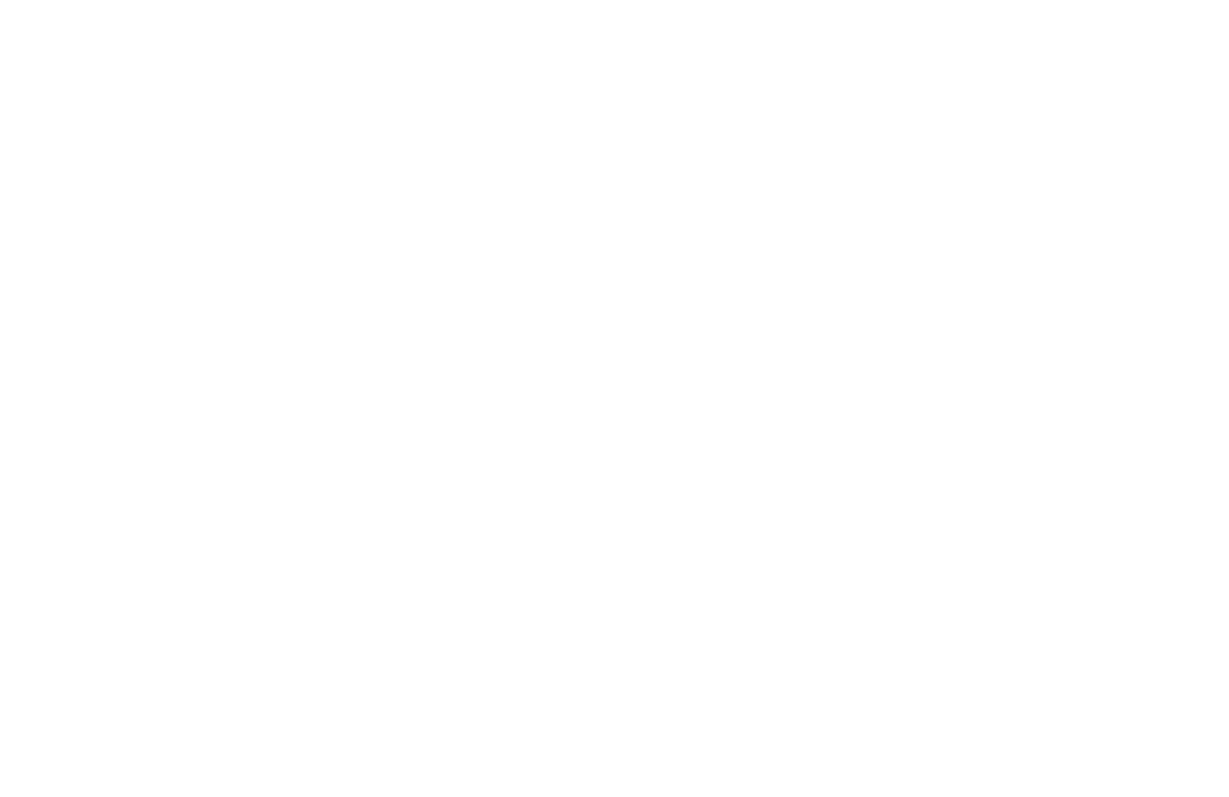
“
В тёмно-синем лесу, где трепещут осины,
Где с дубов-колдунов опадает листва,
На поляне траву зайцы в полночь косили
И при этом напевали странные слова:
А нам всё равно, а нам всё равно,
Пусть боимся мы волка и сову.
Дело есть у нас — в самый жуткий час
Мы волшебную косим трын-траву.
А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане,
У поганых болот чьи-то тени встают.
Косят зайцы траву, трын-траву на поляне
И от страха всё быстрее песенку поют.
А нам всё равно, а нам всё равно.
Твёрдо верим мы в древнюю молву.
Храбрым станет тот, кто три раза в год
В самый жуткий час косит трын-траву.
Станем мы храбрей и отважней льва,
Устоим сейчас в самый жуткий час.
Все напасти нам будут трын-трава!
Где с дубов-колдунов опадает листва,
На поляне траву зайцы в полночь косили
И при этом напевали странные слова:
А нам всё равно, а нам всё равно,
Пусть боимся мы волка и сову.
Дело есть у нас — в самый жуткий час
Мы волшебную косим трын-траву.
А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане,
У поганых болот чьи-то тени встают.
Косят зайцы траву, трын-траву на поляне
И от страха всё быстрее песенку поют.
А нам всё равно, а нам всё равно.
Твёрдо верим мы в древнюю молву.
Храбрым станет тот, кто три раза в год
В самый жуткий час косит трын-траву.
Станем мы храбрей и отважней льва,
Устоим сейчас в самый жуткий час.
Все напасти нам будут трын-трава!
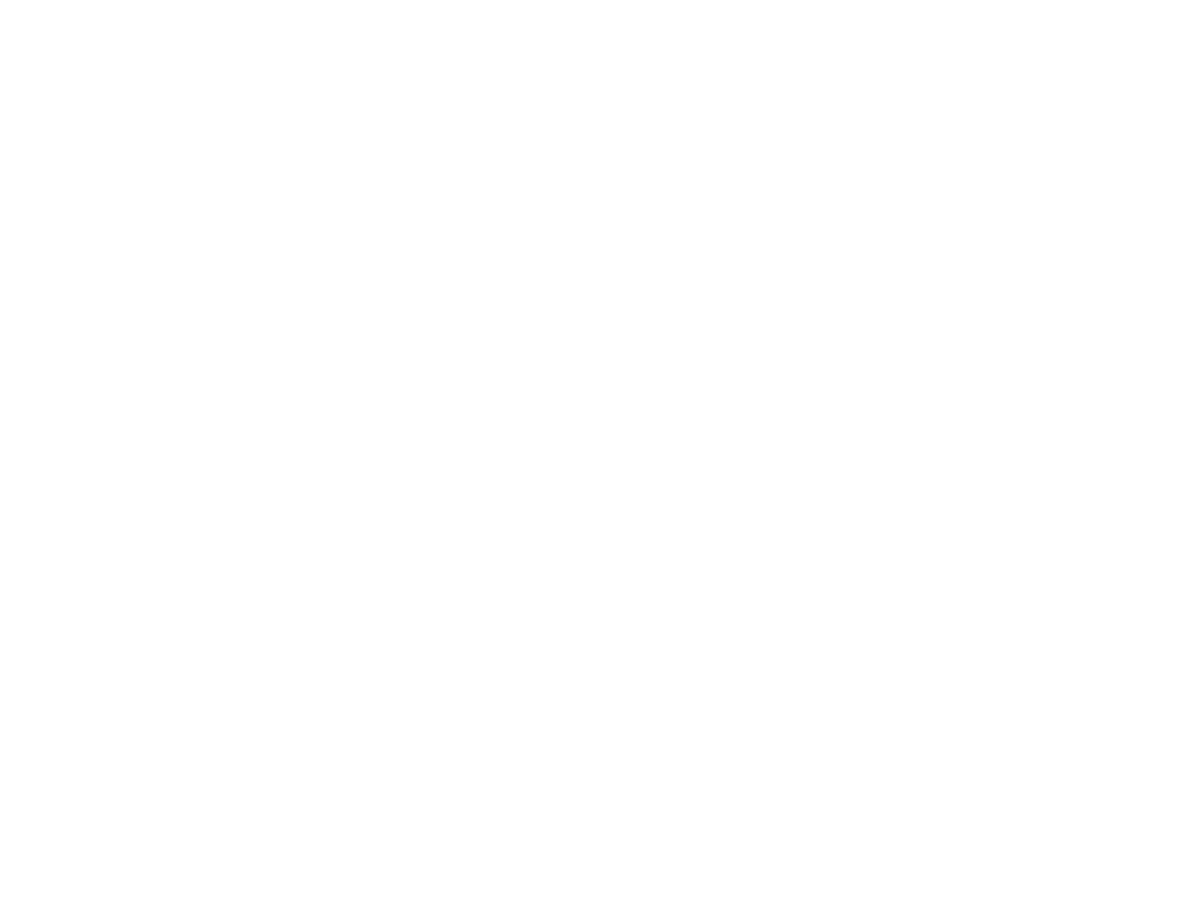
Ну вот то есть зайцы… Ночью. В самый страшный час (а какой именно, кстати, САМЫЙ страшный?). Косят. Или косЯт? Волшебную. Траву. С неоднозначной коннотацией названия. Это какой-то древний языческий перфоманс у них там, среди дубов-колдунов и болотных теней что ли состоялся? И все это в советском фильме про настоящие, традиционные социалистические ценности?! В стране, где главный друг человека – управдом?
Причем сами авторы песенки так до конца и не раскололись, и не раскрыли те символы, которые они в ней зашифровали. Может и никаких… Зато открыли нам свободу интерпретации этих смыслов, даже если они и не планировались изначально.
Причем сами авторы песенки так до конца и не раскололись, и не раскрыли те символы, которые они в ней зашифровали. Может и никаких… Зато открыли нам свободу интерпретации этих смыслов, даже если они и не планировались изначально.
Название волшебной травы, которую косят зайцы в песенке, с одной стороны, отсылает к сленговому выражению «трындеть» – молоть чепуху, болтать, а не мешки ворочать, то есть не заниматься общественно полезным производительным трудом. С другой стороны – к идиоме «трын-трава» – всё равно, безразлично, по барабану, фиолетово, до лампочки... Но в песне «трын-трава» становится волшебным пропуском, а её кошение – инициацией, обязательным условием превращения зайца во льва. Тут двойственность: с одной стороны, трава символизирует бессмысленный, навязанный сверху труд – «косить» – имитировать деятельность, с другой — это единственно возможный социальный лифт.
Зайцы — метафора «простого» советского человека, вынужденного «косить под систему». Их усилия отражают повседневное преодоление абсурда: формальное выполнение и перевыполнение липовых планов, участие в субботниках и политинфомациях, членство в единственной коммунистической партии. Лев же — символ власти, силы, но и стадности – в природе они живут прайдами. Превращение во «льва» — не обретение идентичности, не становление и развитие личности, а растворение в коллективе, где личное заменяется и порабощается общественным. Ирония в том, что «заяц», став «львом», теряет себя, но получает одобрение системы.
Зайцы — метафора «простого» советского человека, вынужденного «косить под систему». Их усилия отражают повседневное преодоление абсурда: формальное выполнение и перевыполнение липовых планов, участие в субботниках и политинфомациях, членство в единственной коммунистической партии. Лев же — символ власти, силы, но и стадности – в природе они живут прайдами. Превращение во «льва» — не обретение идентичности, не становление и развитие личности, а растворение в коллективе, где личное заменяется и порабощается общественным. Ирония в том, что «заяц», став «львом», теряет себя, но получает одобрение системы.
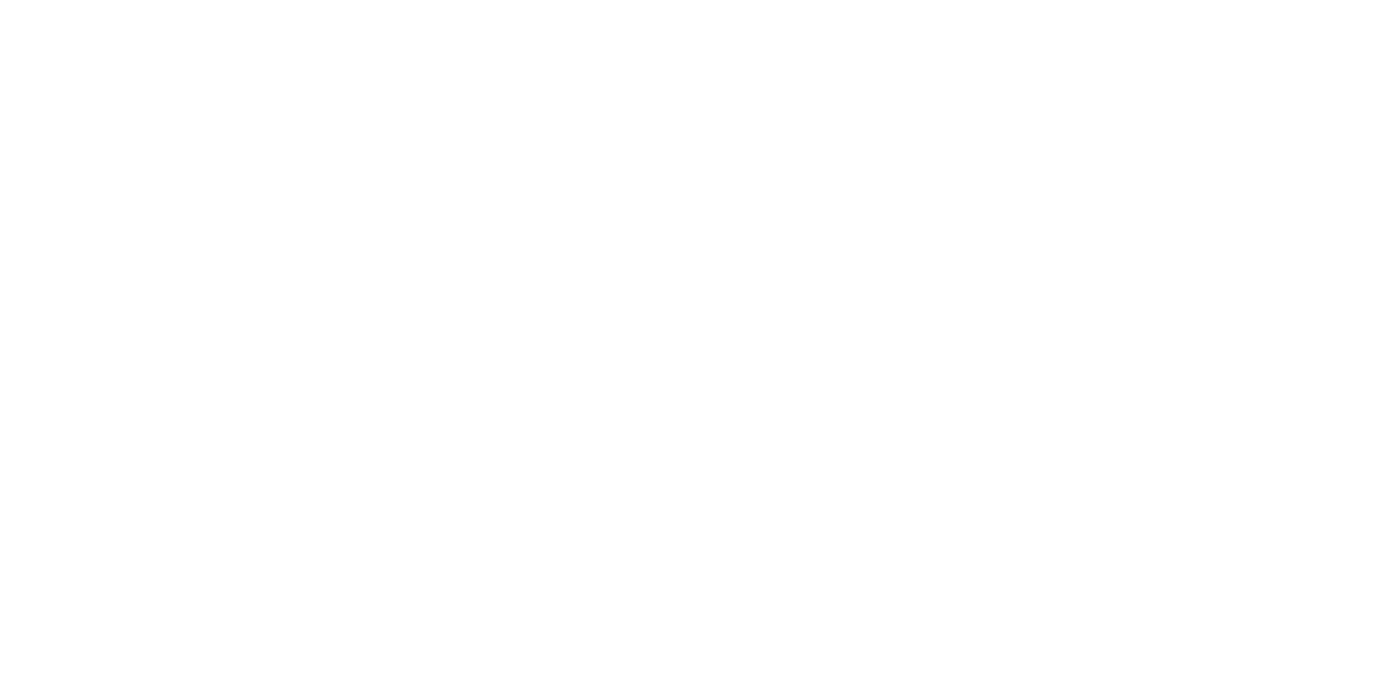
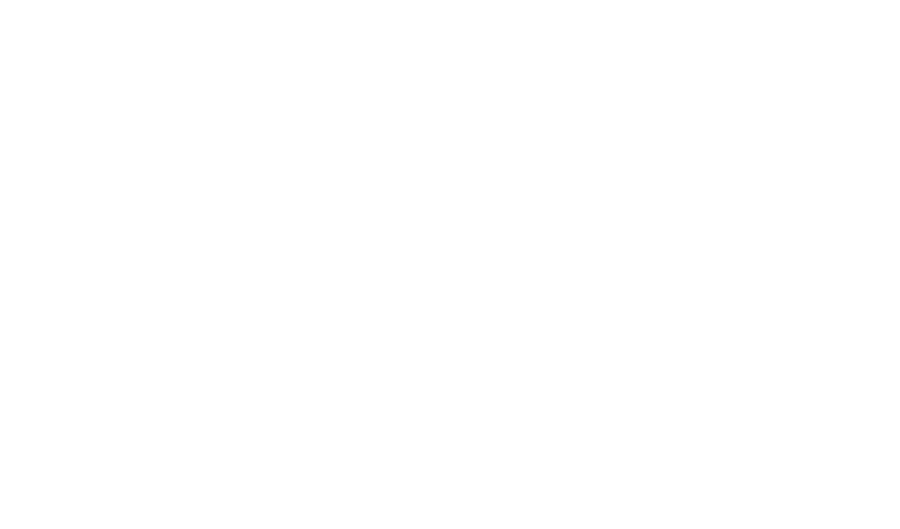
«Волшебство» трын-травы — намёк на миф о «светлом будущем», ради которого стоит терпеть неудобства. Как в сказках, где герой проходит бессмысленные испытания, советский человек должен слепо верить в ритуалы системы. Но финальное превращение во льва — не награда героя, а смена ярлыка: ты не вырос, а просто встроился в иерархию, где внешние атрибуты («грива») важнее внутренней сути.
Фильм снят в 1968 году, в эпоху, когда разочарование в коммунистических идеалах стало массовым. Песня-притча — скрытая насмешка над социалистическими догмами и советской системой. Авторы фильма и песни показывают: чтобы выжить, приходится играть по нелепым правилам, но «львом» в такой системе становится не мудрец и храбрец, а тот, кто лучше притворяется. Уродливый гибрид зайца и льва, который подчиняясь абсурду, и сам становится оксюмороном, теряет индивидуальность, но обретает видимость успеха в глазах коллективного советского бессознательного. Это история не о торжестве преображающего труда, а о мимикрии под систему.
А вот «заяц», не прогибающийся под систему, устоявший и сохранивший, несмотря ни на что, вопреки своим внутренним страхам и внешнему давлению системы – «волкам и совам» – свою личностную свободу, становится главным героем-трикстером, который в итоге систему побеждает. Хотя такого героя в фильме и нет.
Фильм снят в 1968 году, в эпоху, когда разочарование в коммунистических идеалах стало массовым. Песня-притча — скрытая насмешка над социалистическими догмами и советской системой. Авторы фильма и песни показывают: чтобы выжить, приходится играть по нелепым правилам, но «львом» в такой системе становится не мудрец и храбрец, а тот, кто лучше притворяется. Уродливый гибрид зайца и льва, который подчиняясь абсурду, и сам становится оксюмороном, теряет индивидуальность, но обретает видимость успеха в глазах коллективного советского бессознательного. Это история не о торжестве преображающего труда, а о мимикрии под систему.
А вот «заяц», не прогибающийся под систему, устоявший и сохранивший, несмотря ни на что, вопреки своим внутренним страхам и внешнему давлению системы – «волкам и совам» – свою личностную свободу, становится главным героем-трикстером, который в итоге систему побеждает. Хотя такого героя в фильме и нет.
“
А это уже слишком похоже на историческую канву Ирландии. Заяц – живой, пушистый, косой, сидит в собранной, настороженной позе, он выстоял в битве с хищным львом и при этом сам во «льва» (в кавычках) не превратился, остался самим собой. Ирландский заяц — воплощение неукротимой, независимой природы, тогда как советские «зайцы» — жертвы системы, вынужденные прятаться.
Заяц оказывается идеальным культурным медиатором: на ирландской монете он — символ гордой автономии, в советской песне — ироничный комментарий к человеческим слабостям. Таков парадоксальный ментальный код этого животного: он всегда на грани — между свободой и страхом, мифом и реальностью, между конформизмом и сопротивлением. Возможно, именно эта амбивалентность делает образ зайца таким универсальным в дикой природе и человеческой культуре – искусстве, литературе, истории и… нумизматике.
Заяц оказывается идеальным культурным медиатором: на ирландской монете он — символ гордой автономии, в советской песне — ироничный комментарий к человеческим слабостям. Таков парадоксальный ментальный код этого животного: он всегда на грани — между свободой и страхом, мифом и реальностью, между конформизмом и сопротивлением. Возможно, именно эта амбивалентность делает образ зайца таким универсальным в дикой природе и человеческой культуре – искусстве, литературе, истории и… нумизматике.
Может быть не так уж обязательно быть богиней, чтобы иметь мудрость, мужество, милосердие, уверенность и твердость, и даже видеть истинные смыслы происходящего, а можно быть просто русской княжной на греческом престоле… а может, просто человеком?