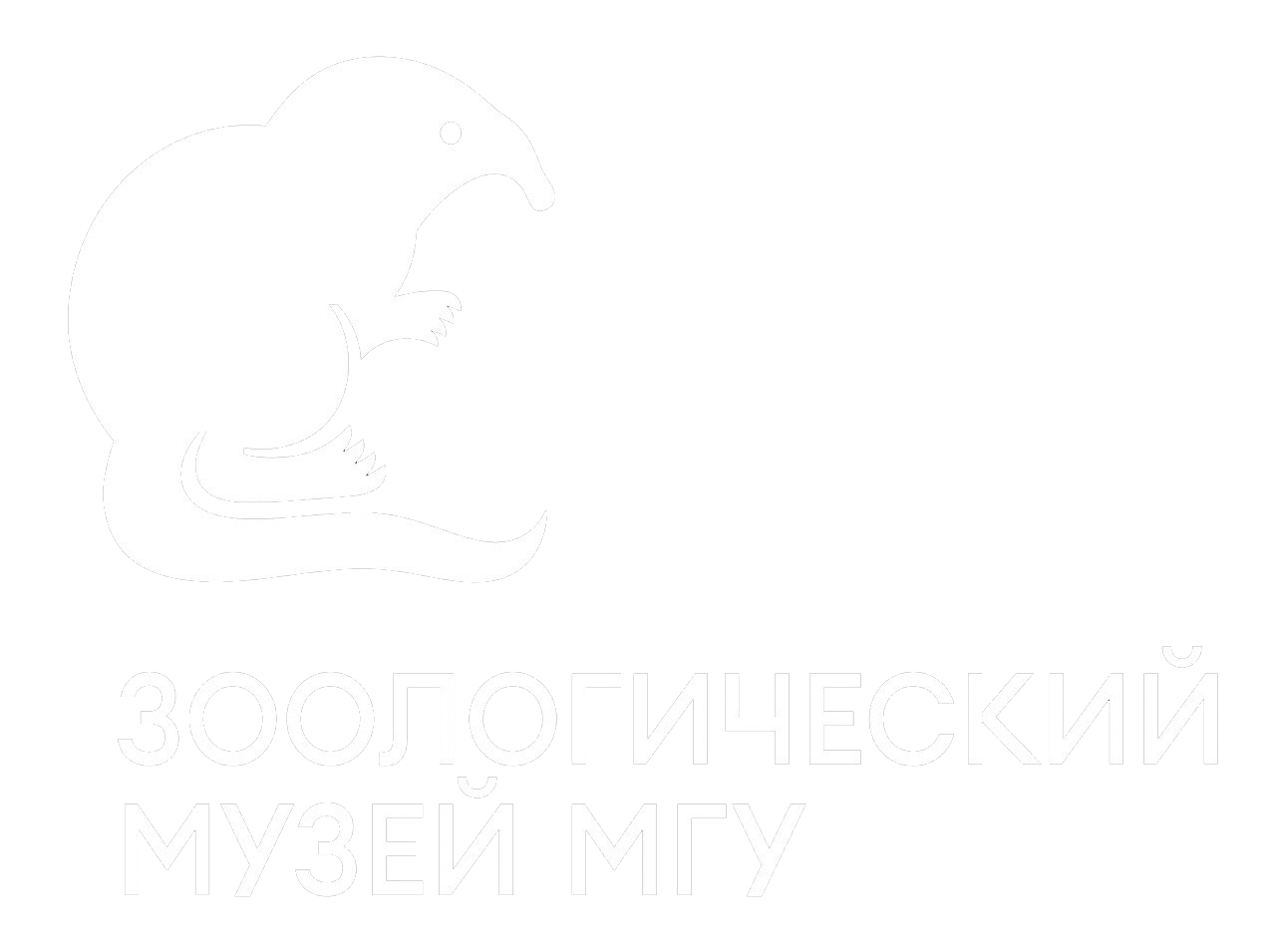CША. Пять центов. Никель с бизоном и индейцем
Два вымирающих
“
Даже лягушка не выпивает пруд, в котором живет...
Часто ли вы смотрите сейчас, в году 2025 на монеты? Полагаю, что вы в основном расплачиваетесь банковской карточкой, прикладывая ее к заскорузлому от сотен тысяч влажных прикосновений кассовому терминалу. Да и на карточку особо смотреть нет смысла – кусок пластика, что с него взять. А сто лет назад деньги были символами эпохи, атрибутом власти и политическим посланием народу.
Не верите? А вот вам история про американский никель достоинством пять центов (всего пять центов ему цена!) чеканки 1913 года, выпуск которого завершил целую эпоху. И не просто эпоху, а вековую черту, когда два вымирающих, два коренных — дикий бизон и американский индеец — встретились на одной монете!
Не верите? А вот вам история про американский никель достоинством пять центов (всего пять центов ему цена!) чеканки 1913 года, выпуск которого завершил целую эпоху. И не просто эпоху, а вековую черту, когда два вымирающих, два коренных — дикий бизон и американский индеец — встретились на одной монете!
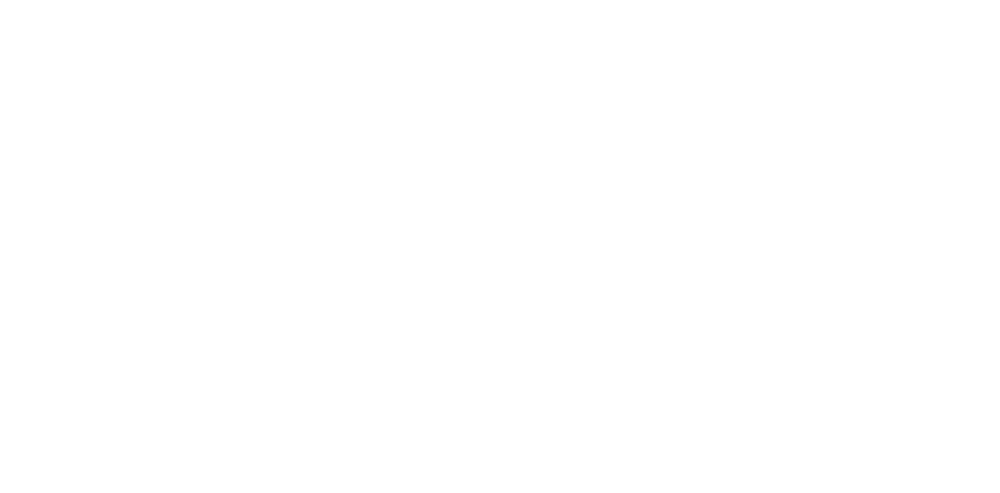
Два вымирающих
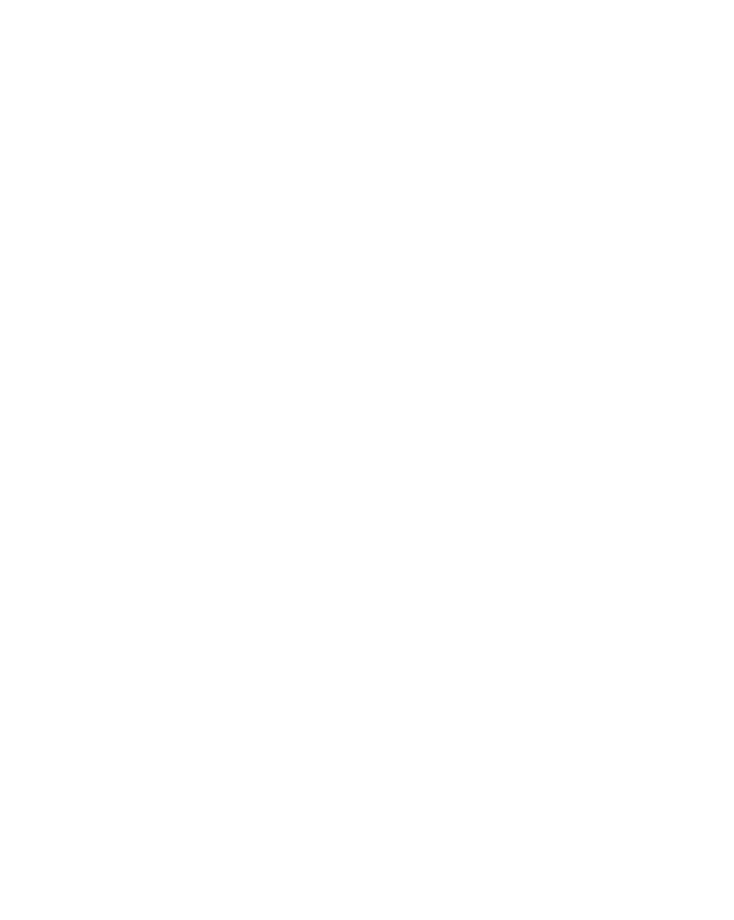
Индейцы были отважные и благородные.
А больше то им встретиться уже было и негде. Потому что к 1913 году индейцев загнали в резервации, а бизонов перестреляли – на шкуры, меховые одеяла, кожу и пеммикан для американской армии.
В детстве мы часто играли в индейцев и «ковбойцев». Индейцы были отважные и благородные. Ковбои – лихие и хладнокровные. Ковбои всегда побеждали, несмотря на все благородство индейцев. Такова историческая правда североамериканского континента. Да и голливудские версии взаимоотношений белых и краснокожих предлагали только такую, единственно верную трактовку событий 200 летней давности. Самых благородных индейских вождей играл Гойко Митич, серб по национальности. У него здорово выходил высокодуховный, мужественный и одновременно задумчиво-печальный взгляд в направлении неизменного кроваво-красного финального заката над дикими прериями, по которым уже катили повозки бледнолицых переселенцев на Дикий Запад. Уверенно покачиваясь в седле, он не спеша ехал навстречу неопределенному индейскому будущему.
В детстве мы часто играли в индейцев и «ковбойцев». Индейцы были отважные и благородные. Ковбои – лихие и хладнокровные. Ковбои всегда побеждали, несмотря на все благородство индейцев. Такова историческая правда североамериканского континента. Да и голливудские версии взаимоотношений белых и краснокожих предлагали только такую, единственно верную трактовку событий 200 летней давности. Самых благородных индейских вождей играл Гойко Митич, серб по национальности. У него здорово выходил высокодуховный, мужественный и одновременно задумчиво-печальный взгляд в направлении неизменного кроваво-красного финального заката над дикими прериями, по которым уже катили повозки бледнолицых переселенцев на Дикий Запад. Уверенно покачиваясь в седле, он не спеша ехал навстречу неопределенному индейскому будущему.
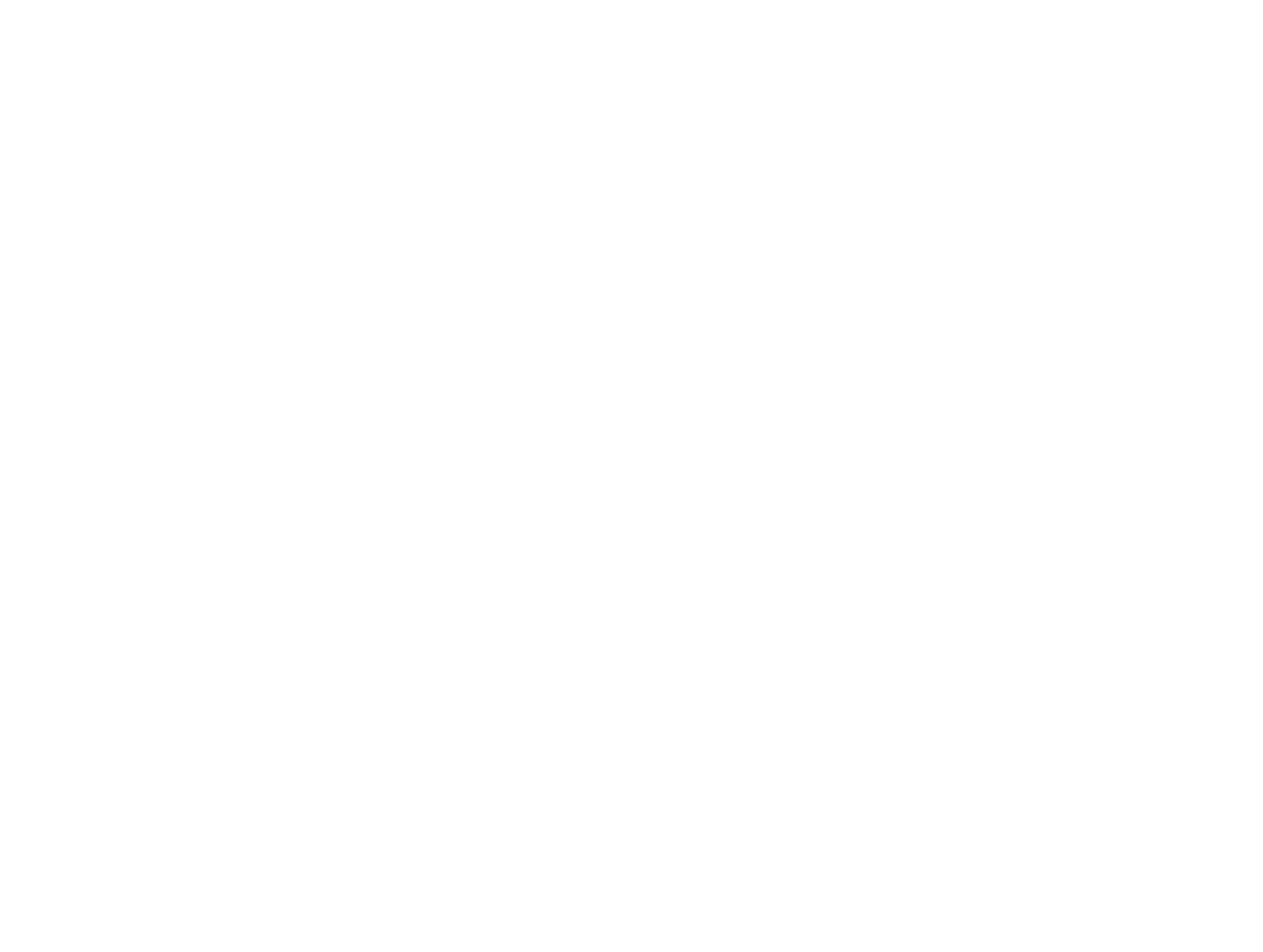
Серая сова, Ястребиный коготь, Белое перо, Виннету–вождь инчучунов, Чингачгук–Большой змей, Одинокий бизон… так называли мы себя в детских играх… На шею вешали ожерелье из черных сушеных корневищ папоротника – они красиво изгибались и напоминали острые когти гризли. Синее блестящее перо из хвоста сороки, а если повезет, то жесткое и приятное на ощупь рулевое перо сойки или дикого голубя, воткнутое в повязку из рукава старой рубашки, вполне сходило за роуч отважного воина. Старое рыжее верблюжье бабушкино одеяло, ужасно колючее, становилось шкурой бизона, мужественно сползающее с плеча Зоркого Глаза…
Вестернов, где индейцы и белые убивают друг друга, снято десятки, если не сотни. Фильмов про то, как извели на тушенку и ремни миллионы бизонов – их почему-то единицы. Белый человек, такой с виду разумный, рациональный, странно поступает с огромными ресурсами, которые ему даются буквально даром.
Вестернов, где индейцы и белые убивают друг друга, снято десятки, если не сотни. Фильмов про то, как извели на тушенку и ремни миллионы бизонов – их почему-то единицы. Белый человек, такой с виду разумный, рациональный, странно поступает с огромными ресурсами, которые ему даются буквально даром.
Именно американский бизон с нашим отечественным зубром встречают посетителей Верхнего зала музея, в самой первой витрине, вместе – два разных зверя, а судьба одинаковая – как и американские индейцы, они практически вымерли. Не сами, конечно, им здорово помогли.
В 1875 году американский генерал Филип Шеридан заявил на слушаниях в Конгрессе: «Охотники за бизонами сделали за последние два года больше для решения острой проблемы индейцев, чем вся регулярная армия за последние 30 лет. Они уничтожают материальную базу индейцев… Пошлите им порох и свинец, … и позвольте им убивать, свежевать шкуры и продавать их, пока они не истребят всех бизонов!»
Что ж, у вас получилось, господа.
В 1875 году американский генерал Филип Шеридан заявил на слушаниях в Конгрессе: «Охотники за бизонами сделали за последние два года больше для решения острой проблемы индейцев, чем вся регулярная армия за последние 30 лет. Они уничтожают материальную базу индейцев… Пошлите им порох и свинец, … и позвольте им убивать, свежевать шкуры и продавать их, пока они не истребят всех бизонов!»
Что ж, у вас получилось, господа.
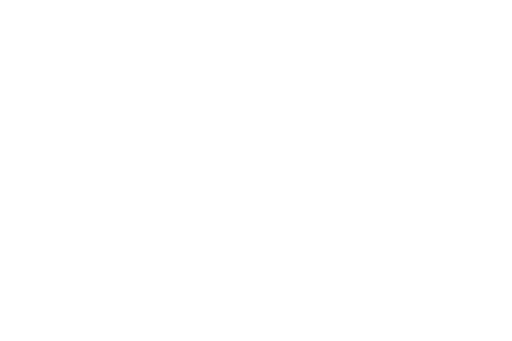
“
Из-за огромных расстояний Великих равнин, неразвитости транспортной сети и отсутствия в те времена холодильников, мясо убитых бизонов бросали гнить на специальных полях, где потом собирали кости, которые отправляли на фабрики удобрений. Лишь в очень дорогих ресторанах восточного побережья США в меню можно было встретить язык бизона. Удобрения, мясо, языки, шкуры – дело-то хорошее… Но вот из окна поезда-то зачем стрелять? Да ради забавы!
Тот самый герой Гражданской войны в США бригадный генерал Шеридан позднее заявил в конгрессе, что следует учредить медаль для «охотников за шкурами», на одной стороне которой выбить изображение мертвого бизона, а на другой — мертвого индейца.
Тот самый герой Гражданской войны в США бригадный генерал Шеридан позднее заявил в конгрессе, что следует учредить медаль для «охотников за шкурами», на одной стороне которой выбить изображение мертвого бизона, а на другой — мертвого индейца.
Вместо медали сделали лучше: никелевый пятицентовик
Пятицентовых никелей с бизоном и индейцем выпустили 2 000 000 штук. Это такая шутка была или нет, но численность коренного населения Америки к моменту активного заселения белыми, то есть в начале 19 века, была примерно такой же, популяцию бизонов оценивали в 60 миллионов голов. Через сто лет, к 1913 году поголовье бизонов упало до одной тысячи животных, то есть сократилось в 60! Тысяч! Раз! Индейцам повезло немного больше, чем бизонам – их число снизилось ВСЕГО в десять раз.
Даже если бы бледнолицые пришельцы с востока, истребив 60 миллионов бизонов, не снабдили пятицентовый никель барельефом этого мощного животного в память о своем великом цивилизационном деянии, силуэт бизона украсил бы любую монету. Даже в один доллар, чего уж мелочиться.
Даже если бы бледнолицые пришельцы с востока, истребив 60 миллионов бизонов, не снабдили пятицентовый никель барельефом этого мощного животного в память о своем великом цивилизационном деянии, силуэт бизона украсил бы любую монету. Даже в один доллар, чего уж мелочиться.
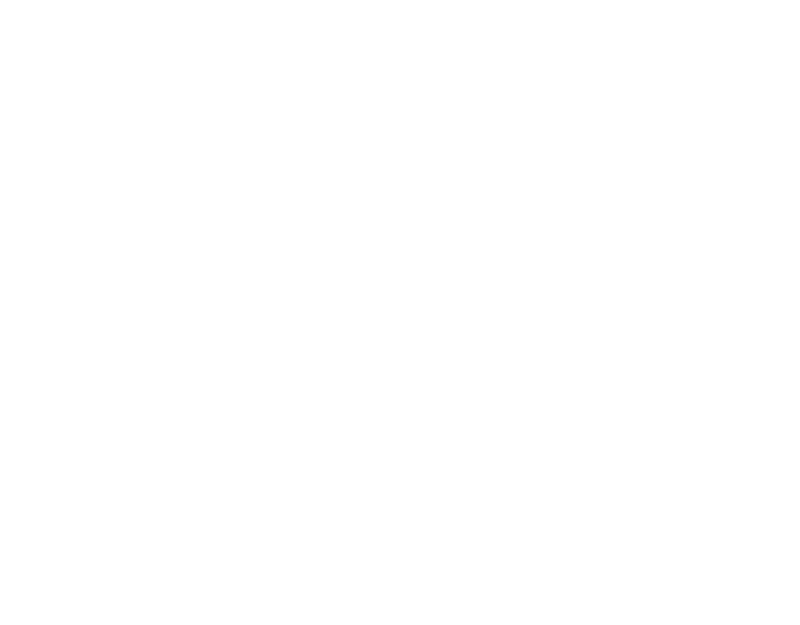
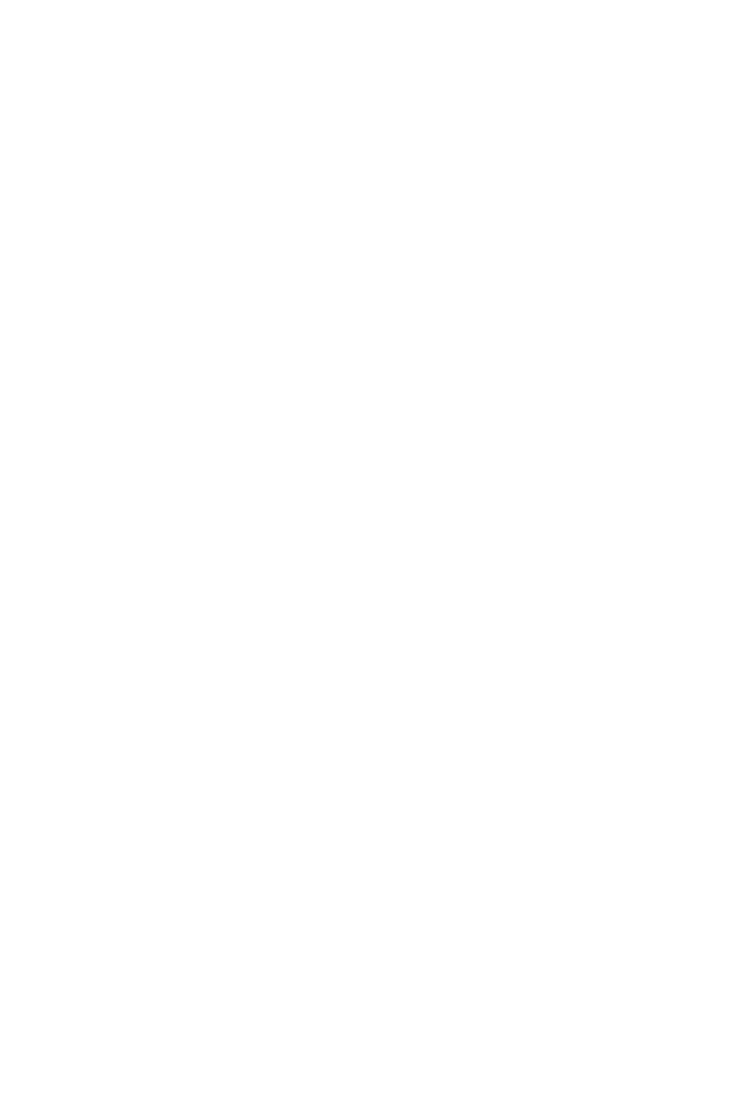
Бизон – это огромное, мощное животное. Крупный бык весит более тонны, это как 4000 батонов колбасы или 10 000 банок сгущёнки. Если бы вы захотели померяться ростом с бизоном, а я бы не советовал, то встав рядом со взрослым животным вы бы еда доставали бы ему до спины – когда он просто стоит на земле на всех четырех ногах, то рост в холке у него под 2 метра. Эти животные во всех отношениях исключительно удачно сконструированы. Они водились на большей части северо-американского континента и чувствовали себя одинаково хорошо от Северного полярного круга до берегов Мексиканского залива. Пережив страшных хищников эпохи мамонтовой фауны, которые могли сравняться с ними по физической силе – саблезубых тигров, пещерных медведей и львов, гигантских волков, они не нашли смертельного врага и в лице людей, населявших Северную Америку, спокойно прожив бок о бок с ними еще около сорока тысячелетий. Считается, что к 1500 году нашей эры популяция бизонов превышала 60 миллионов особей, и они, быть может, являлись самым многочисленным видом крупных млекопитающих на планете.
На рубеже прошлого века большая часть крупных млекопитающих восточных районов Северной Америки, чьи шкуры были пригодны для выделки кожи, включая восточного бизона и оленей, были истреблены в коммерческих целях или находились на грани истребления. Между тем спрос на кожу всех видов никогда не был столь велик. Особой популярностью пользовались дубленки из бизоньих шкур с лохмами черной шерсти.
По данным натуралиста и писателя Э. Сетон-Томпсона, лишь один из каждых трех убитых равнинных бизонов был освежеван. Более того, многие снятые шкуры использовались на месте в сыром виде вместо брезента — прикрывали стога сена от дождя.
Сотни тысяч животных были убиты исключительно ради жира, из которого делали колесную мазь. Бизоны погибали и по прихоти гурманов, которым пришлись по вкусу языки диких бизонов. Но главной причиной убийств было, конечно же, мясо, основная пища строительных бригад, расползавшихся, подобно муравьям, по равнинам, чтобы оставить после себя блестящие стальные нити новых железных дорог, опутавшие весь континент.
В 1887 году английский натуралист Уильям Гриб, проехавший по прериям, писал: «Повсюду виднелись бизоньи тропы, но живых бизонов не было. Лишь черепа и кости этих благородных животных белели на солнце. Кое-где груды костей и черепов были собраны для вывоза на сахарные заводы и на фабрики по переработке удобрений».
По данным натуралиста и писателя Э. Сетон-Томпсона, лишь один из каждых трех убитых равнинных бизонов был освежеван. Более того, многие снятые шкуры использовались на месте в сыром виде вместо брезента — прикрывали стога сена от дождя.
Сотни тысяч животных были убиты исключительно ради жира, из которого делали колесную мазь. Бизоны погибали и по прихоти гурманов, которым пришлись по вкусу языки диких бизонов. Но главной причиной убийств было, конечно же, мясо, основная пища строительных бригад, расползавшихся, подобно муравьям, по равнинам, чтобы оставить после себя блестящие стальные нити новых железных дорог, опутавшие весь континент.
В 1887 году английский натуралист Уильям Гриб, проехавший по прериям, писал: «Повсюду виднелись бизоньи тропы, но живых бизонов не было. Лишь черепа и кости этих благородных животных белели на солнце. Кое-где груды костей и черепов были собраны для вывоза на сахарные заводы и на фабрики по переработке удобрений».
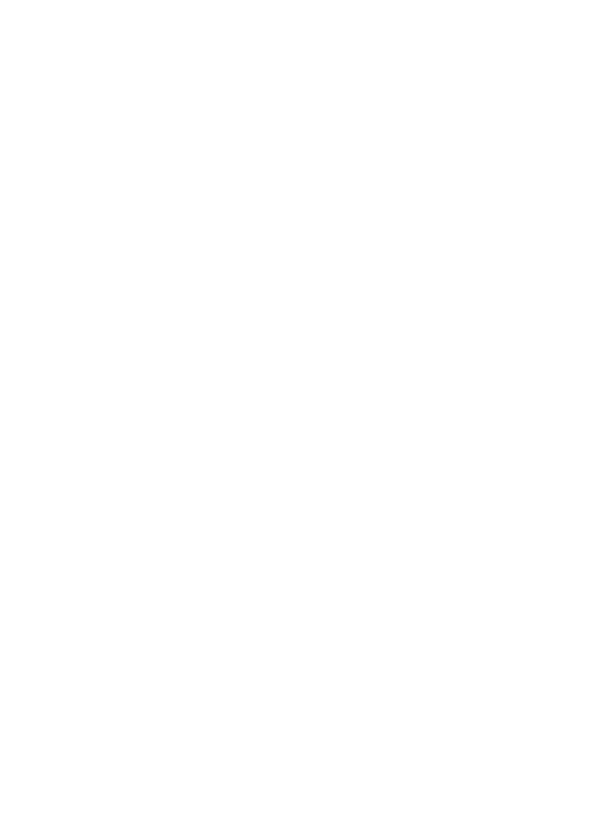
“
В 1740 году один французский путешественник писал:
«…сотни миль речных берегов без признака человеческой жизни и некогда процветающих деревень, которые были опустошены и пусты».
«…сотни миль речных берегов без признака человеческой жизни и некогда процветающих деревень, которые были опустошены и пусты».
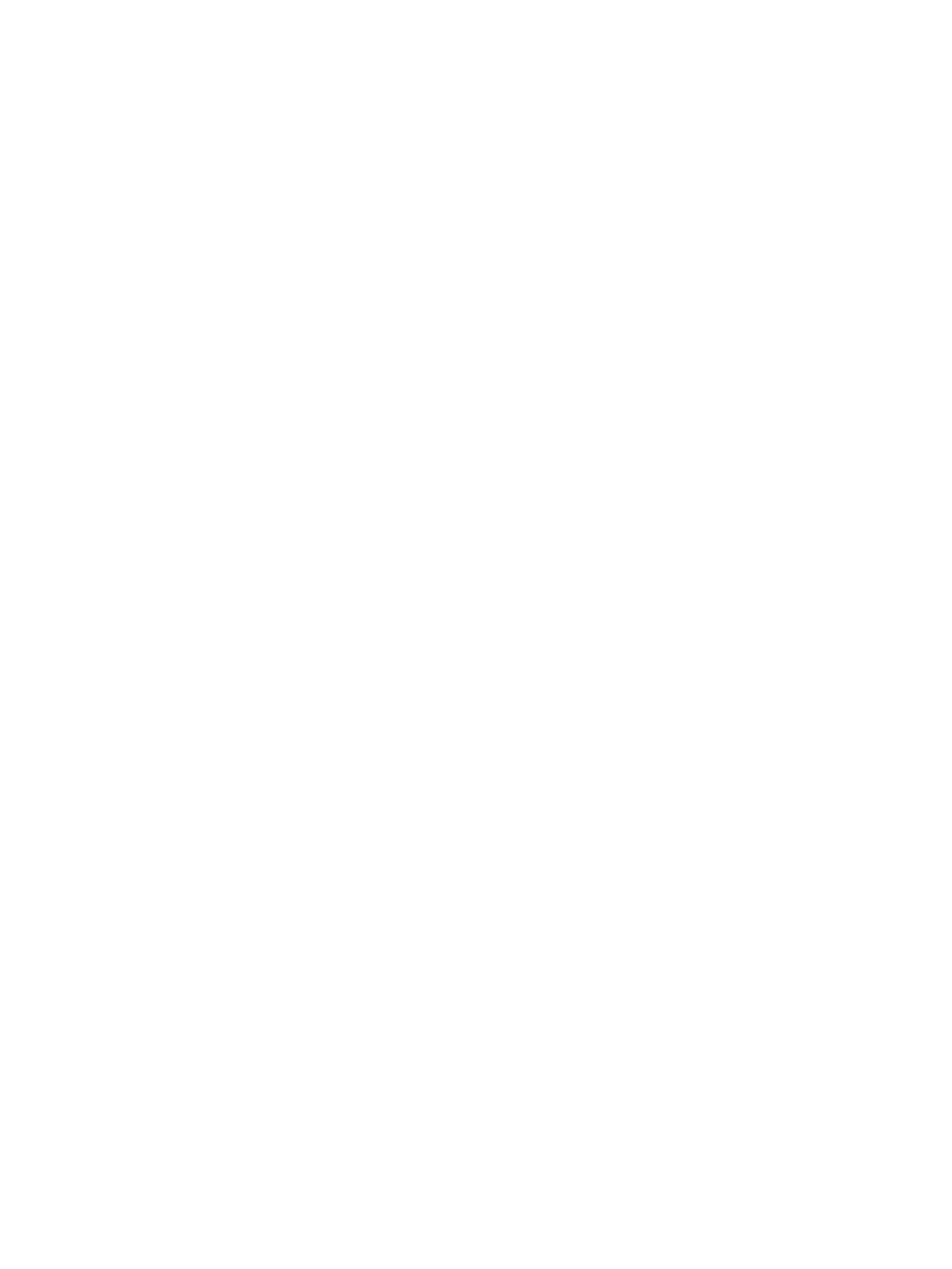
Индейцы разделили судьбу бизонов.
Если деньги и правда послание власти народу, то сообщение, месседж американской монеты достоинством в пять центов выпуска 1913 года получился так себе.
Если деньги и правда послание власти народу, то сообщение, месседж американской монеты достоинством в пять центов выпуска 1913 года получился так себе.